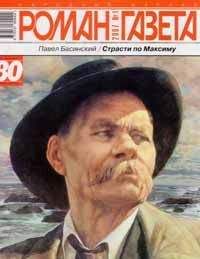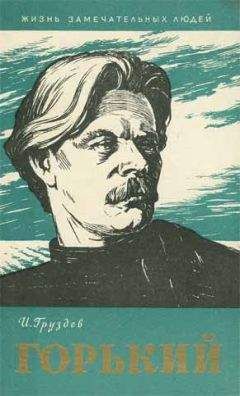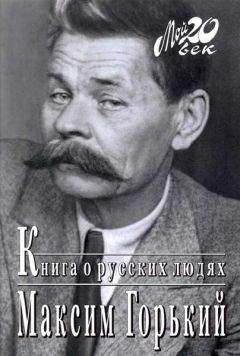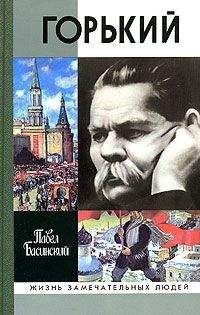Ланин не зря натерпелся от своего служащего, которого он даже готовил в присяжные поверенные. Первая книга Горького носила посвящение А.И.Ланину. Между прочим, его имя на титульном листе могло всерьез навредить легенде по имени «М.Горький». Как и тот несомненный, но пока неизвестный широкой публике факт, что невольный (или сознательный?) творец этой легенды, якобы «босяк», еще до выхода первой книги был знаком (лично или по письмам) с виднейшими личностями своеговремени —Н.Ф.Анненским и В.Г.Короленко, Ф.Д.Батюшковым и Н.К.Михайловским, Д.В.Григоровичем и А.С.Скабичевским. Это было просто тогда: заявиться в дом Короленко (да хоть бы и Льва Толстого), показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке, где Пешков был аккредитован. Послать рассказ по почте в столичные «Русские ведомости» (даже не сам отправил, а его приятель Н.З.Васильев, без ведома автора) и через месяц читать рассказ («Емельян Пиляй») напечатанным. Сидючи в «глухой провинции», искать в столице издателей через посредников (В.А.Поссе) и находить – не одного, так другого. Отказались издавать «Очерки и рассказы» О.Н.Попова, М.Н.Семенов и А.М.Калмыкова. Зато взялись А.П.Чарушников и С.П.Дороватовский.
Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране! Словно между столицами и провинцией не было никакого расстояния! Вот еще пример. Через два месяца после выхода «Очерков и рассказов» литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький как бы между прочим пишет жене: «Гиббона» скоро прочту». То есть что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую «Историю упадка Римской империи», сравнивая ее с упадком империи собственной!
Когда главный редактор «Русского богатства» критик и публицист Н.К.Михайловский обозревал в своем журнале «Очерки и рассказы» «господина М.Горького», то естественно задался вопросом: каким образом в произведения этого «самоучки», не знавшего иностранные языки, проникли идеи Ницше, которого в самой Европе в то время еще считали обычным умалишенным?
Вероятно, решил Михайловский, эти идеи попали туда случайно. Они «носятся в воздухе» и «могут прорезываться самостоятельно». Замечание, достойное той эпохи. Европейская профессура в большинстве своем все еще считает Ницше «неудавшимся филологом», «зарвавшимся мыслителем», а в России его идеи «носятся в воздухе», «прорезываются самостоятельно» в творчестве провинциального самоучки.
Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в «ницшеанстве» самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в «Русском богатстве» с двумя капитальнейшими статьями о Ницше, равных по глубине которым в европейской периодике еще не было? Не он ли едва ли не первым заговорил об особой «морали» Ницше («он – моралист и притом гораздо, например, строже и требовательнее гр.Л.Н.Толстого»)? И это в то время, когда Европа считала Ницше исключительно аморальным мыслителем. Не он ли задолго до экзистенциалистов написал работу «Ницше и Достоевский»? Этих статей Горький не мог не знать. Знал он, как сегодня известно, и о специальных исследованиях: статьях московских профессоров Н.Грота, Л.Лопатина, П.Астафьева и В.Преображенского, появившихся в «Вопросах философии и психологии» в 1892—1893 годах. Спорил о них со студентами ярославского лицея.
В конце восьмидесятых, находясь на пороге окончательного безумия, Ницше только-только получал первые весточки о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о «базельском мудреце». Законодатель интеллектуальной моды во Франции Ипполит Тэн только-только бросил свой благосклонный взор на европейского мыслителя, уже завершающего свой творческий путь. А через несколько лет ярославские студенты ожесточенно спорят с каким-то типом, не окончившим даже начального училища Кунавинской слободы в Нижнем Новгороде, о феномене Фридриха Ницше!
Это и была Россия, «которую мы потеряли». И в этой стране не могла не накопиться та критическая масса, которая вскоре породила взрыв. В культуре той эпохи была какая-то чрезмерная избыточность. Что ни писатель, то мировое событие. Что ни фигура, то «мессия». Явление Белого с «Симфониями», Блока с «Незнакомкой», Андреева с «Бездной». И молодой Горький здесь не только не исключение, но – по крайней мере, на протяжении конца девяностых – начала девятисотых годов – главный участник этого литературного процесса.
«Карьера Горького замечательна, – писал впоследствии князь Д.П.Мирский. – Поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России <…>, его нередко ставили рядом с Толстым и безусловно выше Чехова». В 1903 году было продано в общей сложности 103 тысячи экземпляров его сочинений и отдельно 15 тысяч экземпляров пьесы «Мещане», 75 тысяч экземпляров пьесы «На дне». В то время такие тиражи считались огромными.
В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург. И уже через десять дней басовито дерзил именитым столичным литераторам и общественным деятелям на банкете, организованном в журнале «Жизнь» едва ли не ради того, чтобы познакомиться с ним лично. Именитости, конечно, обижались. Но – терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем «альтернативной» культуры, «культуры-2». Не зная толком ни кто он, ни откуда явился, все видели в нем «вестника» неизвестной России. Той, что начиналась даже не за последней петербургской заставой, а в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. Конечно, это случайность, что появление «Очерков и рассказов» почти буквально совпало с выходом в свет первого русского перевода «Так говорил Заратустра». Но Горький к этой случайности хорошо подготовился.
В архиве Горького хранятся воспоминания жены его сперва нижегородского, а затем киевского знакомого Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по призванию, он так напичкал Пешкова древней и новейшей философией, что едва не довел его до умопомрачения. В очерке «О вреде философии» Горький ярко описал и личность самого Васильева, и свое состояние в 1889—1890 годах.
«Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал: