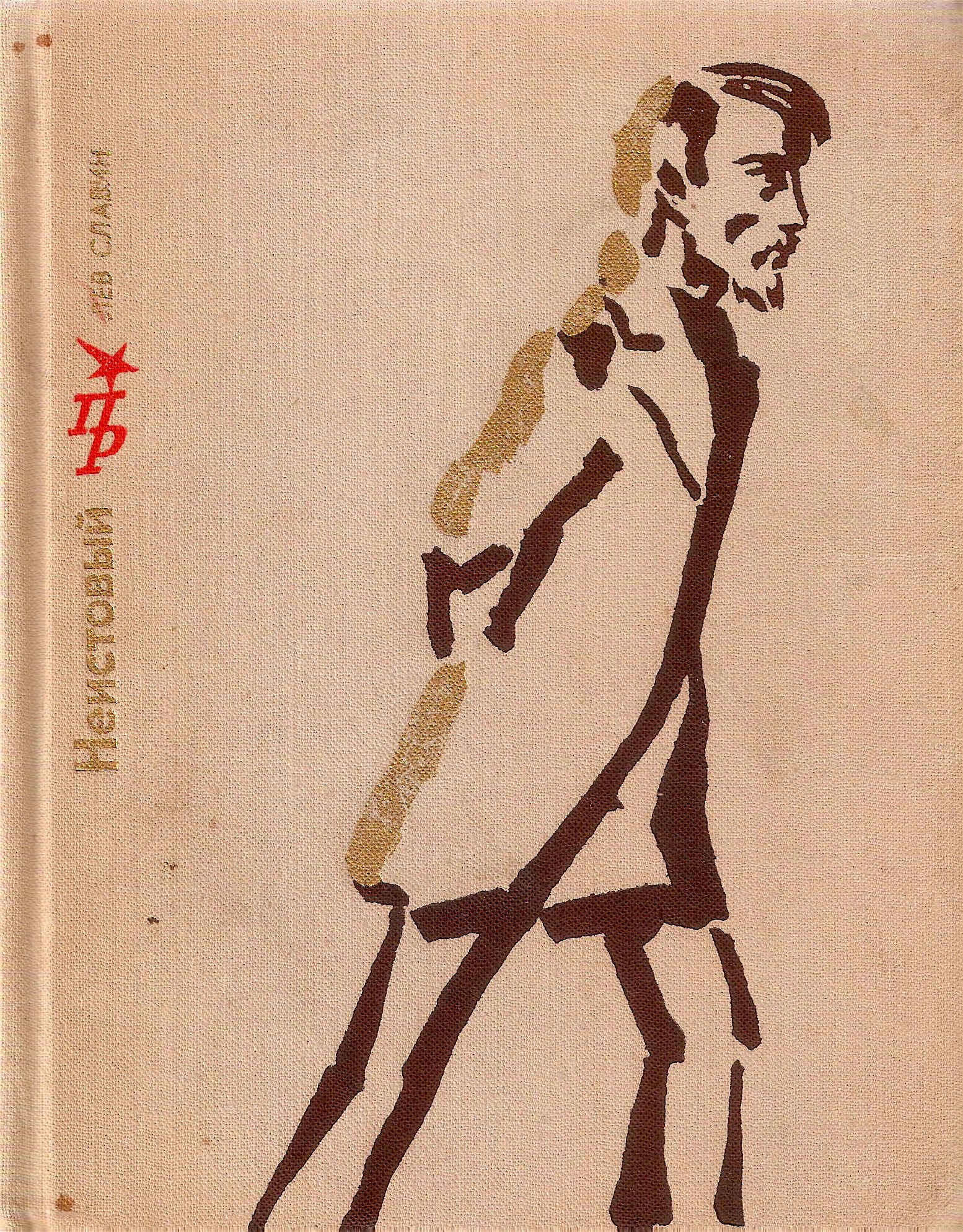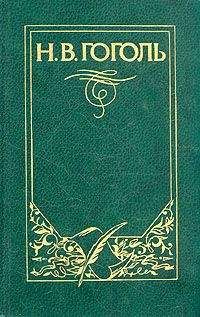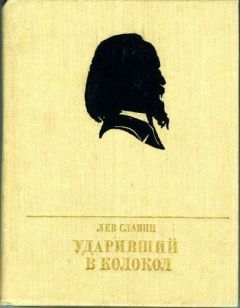Герцен не выдержал, взял шляпу и, не прощаясь, пошел к дверям.
— Для человека,— кричал Белинский, следуя по пятам за Герценом,— истина существует прежде всего как непосредственное созерцание, во глубине его духа заключающееся!
Герцен остановился.
— Слушайте,— сказал он,— вы подпираете царя Гегелем. А самому-то царю на Гегеля и на всех философов наплевать. Вы распинаетесь за него в Башей, простите, позорной статье «Бородинская годовщина». А он-то, Николай, и знать ваших лакейских статей не хочет. А узнал бы, сказал бы: «Не лезь не в свое дело».
Белинский от возбуждения сначала не мог ничего выговорить, потом закричал так громко, как если бы ораторствовал на площади перед народом:
— Пора посмирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы со своими руководителями и воплощенная в них история.
Ужас изобразился на лице Герцена.
— Белинский,— сказал он,— этот ваш отказ от прав собственного разума ведь это какое-то непонятное чудовищное самоубийство...
Он круто повернулся и выбежал. Он не хотел более ни слышать Белинского, ни видеть его. Он быстро сбегал по лестнице. До него доносились отдельные слова, которые Белинский выкрикивал ему вдогонку, свесившись над перилами:
— ...мудрецы... вам достаточно четверть часа, чтобы с сигарой во рту перестроить мир на свой лад...
Вернувшись в комнату, Виссарион бросился па стул и долго гулко кашлял. На лице у него было отчаяние...
Там, внизу, Герцен прислушивался к этому надрывному кашлю. Сам-то он ощущал свои легкие, как два монгольфьера. Казалось ему, стоит только вдохнуть побольше воздуха — и он плавно взлетит ввысь.
Но этот ужасный кашель там наверху... И с этакой грудью Виссарион еще собирается переселиться в Петербург, сырой, промозглый... На лице у Герцена было страдание...
Да, в Петербург. Уже все с Краевским договорено. Панаев, добровольный посредник, обожатель Белинского, отлично уладил всю деловую сторону. По просьбе Виссариона («Уж вы не говорите Краевскому о моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...») Панаев действительно умолчал о бедственном положении Виссариона. Но не Панаеву с Белинским обвести вокруг пальца такого коммерческого, такого гостинодворческого мужчину, как Андрей Александрович Краевский. Условия, предложенные им, были довольно прижимистыми. Аванс на отъезд совсем крошечный — на уплату долгов не хватит, наоборот, придется новые сделать. А там в Питере — три с половиной тысячи рублей ассигнациями в год (стало быть, серебром это выходит одна тысяча). За это Белинский обязывается вести в «Отечественных записках» весь критический и библиографический отдел...
Но в общем Панаеву спасибо. Вот славная душа! Белинский чрезвычайно расположился к нему, скучал без него и обрадованно встречал его, когда тот входил, сияя улыбкой на лице живом и добром, являвшем собой опрокинутый треугольник, упиравшийся вершиной в снежной белизны воротничок и широкий бант галстука. Вообще щеголь, по-барски ухоженный: длинные, хорошо расчесанные усы, длинные же красивыми прядями кудри, едва ли не про-фиксатуаренные. Да ведь никак нельзя иначе, жена — красавица. У Авдотьи Яковлевны плечи божественные, глаза большие, изумрудно-зеленые. Застенчива и естественна, ничего в ней от актерской семьи, из которой она происходит. И до того юная,— выглядит еще моложе своих двадцати,— что Белинский с ней — добродушно-насмешливо, как с девчонкой.
Ну вот и ехать. Пришлось все-таки забежать к Нащокину и перехватить двести рублей. Нельзя же в Петербург без копейки. Да и приодеться надо. Для экономии перед отъездом перебрался Виссарион к Боткину. Тот уговорил взять у него семьсот... Да еще старый долг Вологжанинову — триста... Ну, и мелкие разным лицам, в том числе в овощную лавку и в цветочный магазин, и сапожнику, и портному, и булочнику, и банщику, и Дарье Титовне, кроткой старушке, что вела его хозяйство...
Панаев торопит. Книги увязаны, уже в карете. Виссарион грустен необычайно.
Провожают трое. Разговор не вяжется. Один Кетчер пытается шумно острить. Но и он быстро выдыхается в этой атмосфере невеселого молчания и принимается поудобнее устраивать стоящую у него в ногах корзину, откуда из-под соломы что-то стеклянно звякает. Вася Боткин не сводит взгляда с Белинского, а Миша Катков уставился куда-то вдаль.
Но вот и первая станция — Черная Грязь. Пока перепрягают лошадей да проверяют подорожные, друзья усаживаются в зале за столиком. Кетчер вынимает из корзины шампанское.
— Не забывайте меня, господа,— шепчет Белинский.
Катков обнимает Виссариона, целует. Ну, а Кетчер распахнул свой сатанинский плащ, черный, на красной подкладке, и тянется к Белинскому с бокалом шампанского. Виссарион, вопреки своему обычаю, пьет. Кетчер громогласно наказывает ему, чтобы там, в Питере, он подмял под себя Краевского. Виссарион молчит. Поглядывает на часы. Боткину показалось, что он к ним охладел. А Виссариону просто не по душе всякие чествования, именинные торжества, юбилеи, проводы.
Тронулись наконец. Белинский не захотел оглядываться, чтобы не разрыдаться. Оглянулся Панаев. Вася Боткин машет большим клетчатым платком, Миша Катков — руки сложены на груди, голова опущена, значительный взгляд исподлобья — чистый Наполеон. Кетчер приветственно вздымает бокал...
Часть II. ПЕРЕМЕНЫ
В заботах суетного света
Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление.
Стендаль
Успели только стряхнуть с себя дорожную пыль и сразу — к Краевскому. Увидев Белинского, Андрей Александрович бросился обнимать его, крепко прижимая щуплого критика к своему объемистому животу, тыкался к нему в лицо своими пышными кавалерийскими усами и все повторял:
— Наконец-то приехал спаситель мой!
Виссариону это, разумеется, понравилось. Он оттаял и принялся развивать вслух проекты своих будущих статей. Андрей Александрович на все восторженно кивал головой и повторял:
— Только вы, Виссарион Григорьевич, оживите мой журнал. Да, впрочем, почему я говорю: «мой»? Он ваш!
Панаев Иван Иванович больше помалкивал. Он хорошо знал цену грубоватой любезности и туповатым шуточкам своего зятя. Конечно, Неистовый ему сейчас нужен до зарезу. Только его блистательное перо и неукротимая работоспособность могут поднять чахнущие «Отечественные записки».
Совсем плохо получилось с квартирой. Еще в Москве