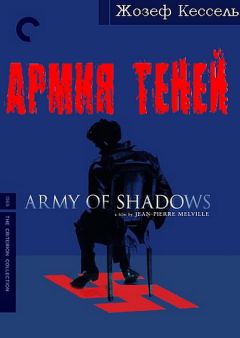- Мой участок находится возле шоссе. В окрестностях разместилось несколько фрицев. Каждый день кто-то из них приходил ко мне с просьбой дать им что-то выпить. Я продавал им вино и продавал по очень высоким ценам... Это было уже слишком... Они всегда приходили в одно и то же время, поскольку это было им запрещено, а они всегда очень подозрительны по отношению друг к другу. И вот однажды вечером пришел унтер-офицер, уже немного пьяный, и, не увидев открытый люк погреба, упал вниз. Мой погреб довольно глубокий... Фриц сломал себе шею. Я спустился и увидел, что он мертв. Я не хотел неприятностей и закопал его прямо в погребе... Возможно, именно этот случай заставил работать мои мозги... Я конечно не полностью в этом уверен. Но, черт побери, через несколько дней люк погреба снова оказался открытым, когда фриц вошел в дом. Он тоже выпил пару лишних стаканов, и тоже упал... Только в этот раз я ему немного помог. Его я тоже похоронил в погребе. Потом был еще один. И еще один. Я считал. Их набралось девятнадцать... Но, в конце концов, я начал спешить. Я просто не мог контролировать себя. Люк погреба просто как бы заворожил меня. Если бы по одному фрицу пропадало каждый месяц, может быть, все прошло бы гладко. Но по два - три в неделю, это уже непостижимо. Комендант начал расследование. Наконец, они заглянули в мой погреб. А пол моего погреба, ну, как сказать, пол слишком поднялся. Там были три слоя зарытых фрицев. Вот теперь я здесь... Я внес свою долю...
Губы крестьянина снова приняли то же выражение, напоминавшее довольного охотничьего пса.
Жербье подумал:
- Нам следовало бы взять его в нашу боевую группу. Но почти одновременно вспомнил:
- Но ведь его расстреляют через несколько минут. И тут же внутренний голос напомнил:
- И тебя самого тоже. Но Жербье не узнал этот голос. Он был не его. И он не мог ему поверить.
В это время третий смертник начал рассказывать свою историю. Жербье понимал, что каждый из них слушает своего сокамерника равнодушно и только из вежливости. У каждого было только одно желание, только одно намерение: облегчить свою душу перед смертью.
- Я тоже внес свой вклад, хотя мне еще нет и двадцати, - рассказывал следующий приговоренный. Его молодость выплескивалась в огне голоса, а жизнь оживляла его лицо и даже заставляла двигаться маленькие темные усики, отращенные в тюрьме. Выпуклый лоб и крепкие плечи делали его похожим на молодого бычка.
- Я лотарингец, из аннексированной Лотарингии. Я учился в университете, когда боши объявили, что через шесть месяцев весь мой курс будет мобилизован в немецкую армию. Я не медлил ни минуты, можете представить. У меня было время, чтобы провести дома Рождество и сбежать. У нас был прекрасный полуночный праздничный ужин. Я не знаю, как моей маме удалось до праздника сохранить гуся. Отец достал последние бутылки хорошего вина. В конце трапезы отец обнял меня и провел к двери. Он открыл ее. И он сказал мне:
- мы знаем, в чем состоит твой долг. Моя мать дала мне заранее приготовленный чемодан и немного денег. Утром я пересек французскую границу. В этот момент я подумал:
- Старина, с родителями как у тебя, ты не сможешь вести тихую спокойную жизнь и ждать, пока кто-то другой добудет для тебя победу. В Париже я попытался сам принести пользу. Я знал группу прекрасных молодых ребят. Я работал в газете, выражавшей независимое мнение. Я должен вам признаться, что я всегда хотел стать писателем. Ну вот, я оказался пригодным для этого ремесла ... и как раз в такой исторический период, которого никогда раньше не было. Через сотни лет, через тысячи лет люди будут перечитывать эти наши газеты, вот увидите...
Жербье на мгновение посмотрел на его щеки, окрашенные прихлынувшей кровью так ярко, что они горели сильнее, чем тусклый мерцающий свет и голубовато-серые отблески на стенах.
- У парня есть темперамент, - подумал Жербье. - Он, наверное, писал статьи для "l'Etudiant Patriote" ( "Студент-патриот") или "Les Lettres Francaises" ( "Французская литература").
Дошла очередь до следующего заключенного. Это был человек очень хрупкого телосложения и с деликатными чертами. Хотя он сидел, скрестив ноги, торс его был совершенно прямым, как будто закован в кирасу. Его глаза сияли, а голос был удивительно чист.
- Я оказался тут среди вас не из-за освободительной деятельности, господа, - начал он. - Несмотря на мои чувства, я не осмелился выступить против Маршала. Я не был совершенно уверен в моих умственных способностях. Мой духовник - а я всегда следовал его советам - предложил мне подождать, пока я не увижу вещи в более реальном свете. У меня был маленький замок и немного земли. У меня четверо детей. Я жил ради них. Нет, я не занимался какими-то активными действиями, но я не смог отказать в убежище преследуемым людям. Я укрывал и англичан, и сбежавших заключенных, и скрывавшихся патриотов, и еврейских детей.
Человек рядом с Жербье нервно покачал своей курчавой головой.
- Наконец, они меня арестовали. Во время допросов мне удалось увидеть детей. Дети сперва вообще меня не узнали. Я был грязным. У меня отросла недельная борода, и я был одет как бродяга. Когда я обнял их, они испугались. Они смотрели на мать в поисках спасения. Наконец, самая старшая, ей семь лет и она ходит в начальную школу для девочек, спросила меня:
- Папа, это ведь не правда, что ты сделал что-то очень плохое против Маршала? В первый раз в жизни я не знал, что ответить этому ребенку. В классе их всех учили любить Маршала. А Маршал держал меня два года за решеткой в неоккупированной зоне, а когда в зону вошли немцы, он передал меня им. Я простил всех моих врагов. Но именно из-за Маршала мне теперь очень трудно называть себя христианином.
Человек с живыми меланхоличными глазами, сидевший рядом с Жербье, начал говорить так быстро. что слова сливались друг с другом. Жербье задумался, не было ли это проявлением нетерпеливости, свойственной этой расе, или просто означало понимание того факта, что время уже поджимало.
- Я раввин, - сказал сосед Жербье. - Раввин в большом городе. Так как я раввин, немцы включили меня в комитет, занимающийся идентификацией тех евреев, которые не хотели сами о себе заявлять. Вы слушаете? В комитете было пять человек: два немца, два французских католика и один французский иудей. Последним был я. Вы слушаете? Каждую неделю к нам приводили мужчин и женщин, которых подозревали в том, что они евреи. А мы должны были сказать, евреи они или нет. У еврея, а тем более у раввина, были лучшие шансы узнать своего единоверца, чем у первого встречного. Вы слушаете? Немцы, кончено , думали именно так. И они предупреждали меня. В первый раз, как только я скажу "нет", и если они проверят, и окажется, что на самом деле - "да", меня расстреляют. Вы слушаете? Но проблема была в том, что стоило бы мне сказать "да", как этих людей депортировали бы в Польшу на верную смерть. Прекрасная ситуация для раввина, не правда ли?..