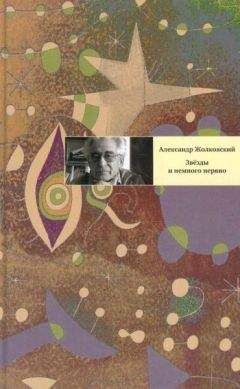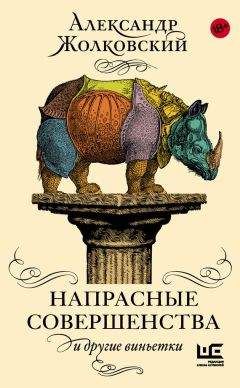– Что же это получается? – сказал я. – На такое дело вместе идем, а вы мне в пустяках не доверяете.
Мейер раскололся – он шел к Боре Успенскому, с которым я в ссоре как раз не был. Я позвонил Боре и сказал, что его гость у нас и задерживается. Мы еще долго выпивали за науку, за свободу слова и передвижения и за будущие встречи. Потом поймали ему такси, и с картой подмышкой он отправился на следующую явку.
Через какое-то время до нас дошла весть о прибытии заветного свитка в землю обетованную.
Когда я всерьез засобирался в эмиграцию (1978 год), один старший коллега, В., блестящий человек, много сделавший для становления «новых методов» в лингвистике, спросил меня о мотивах отъезда. Минуя очевидные, я стал напирать на интерес к новому – в себе и в окружающем мире – и некоторое время развивал эту тему. Реакция В. поразила меня не только обычной для него чеканностью, но и неожиданной откровенностью.
– Из вашей аргументации явствует, что «новое» у вас ассоциируется с «хорошим»?
– А у вас нет?
– Нет. Мне новое внушает страх.
Я уехал, он остался. Лишь постепенно, живя в Новом Свете и регулярно сталкиваясь с незнакомыми ситуациями, я по-настоящему оценил честно отрефлектированную экзистенциальную робость В.
Раньше меня в эмиграцию отправился мой друг Феликс. Он и до этого неоднократно переезжал с места на место: Ташкент – Москва – Новосибирск – Ереван – Новосибирск. Сначала он приходил в восторг от нового окружения, овладевал новым языком, но вскоре со всеми ссорился, бросал опостылевшую работу, срывался дальше, возвращался, снова уезжал. За границей повторилось то же: Израиль – Лондон – Израиль – Канада – Лондон – Штаты…
Я помню многие его словечки.
– Алик, если люди могут лечь в постель только на почве общих взглядов на морфологию, согласись, в этом есть какая-то половая трусость?!
Феликса полтора десятка лет как нет в живых. В., который старше нас почти на столько же, бодр, ездит по свету, иной раз удивляет чем-нибудь новеньким. В себе я знаю обоих – с одним давно напереезжался и умер, с другим перебираюсь в новое тысячелетие.
1
Первые двадцать лет своей жизни (включая пять более или менее сознательных) о выезде за рубеж я не помышлял, твердо зная, что граница на замке. Потом ее стали пересекать заезжие иностранцы, и с некоторыми я знакомился. Потом я и сам начал ездить, правда, исключительно в Польшу по частному приглашению, чувствуя себя зощенковским Минькой, способным откусить только от яблочка на нижней ветке.
Но постепенно я смелел и однажды провез к польским издателям верстку чужой статьи. С диверсантской находчивостью применившись к обстановке, я засунул оттиск в настенную библиотечку пропагандистских брошюр. В Бресте пограничники по-уставному споро нырнули под нижние полки, отжавшись, взлетели к верхним, тщательно осмотрели мой багаж, но коридор инструкцией охвачен, видимо, не был. Стена, да гнилая, всплыло в памяти что-то подпольное.
В мой второй визит в Польшу варшавские друзья повезли меня в Татры, и там, с видом на озеро Морске око, мы демонстративно перешли чешскую границу, никак, впрочем, не охранявшуюся. А через две недели объединенные войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию всерьез, и на яхтенном кэмпинге в Гижицко молодые французы спрашивали меня: «Зачем вы это сделали?».
Назад я ехал со страхом, как бы уже в другую страну. В полупустом поезде молодой солдат, кружным путем возвращавшийся из Чехословакии, найдя наконец, с кем поделиться распиравшей его гордостью, рассказал мне, как, едва-едва опередив западных немцев, они защитили Прагу. Я возразил, что ФРГ – разоруженная оккупированная страна, но наткнулся на полную убежденность и продолжать дискуссию остерегся.
2
Получив визу для выезда к вымышленным родственникам в Израиль и з абира я в последний раз из прачечной свое белье, я стал торжественно прощаться с тамошними тетеньками. Но в безвозвратный отъезд они поверить отказывались, допуская максимум командировку на три года. «Да нет, все, уже не увидимся». – «Что вы! Ведь вы же советский человек».
Однако этот врожденный недостаток был уже мной успешно утрачен, и 24 августа 1979 года я покинул СССР, раз и навсегда положив конец как общей головной боли проживания на его территории, так и изматывавшим меня вполне конкретным мигреням. Не отсюда ли слово «эмиграция»?
Взаимоотношения еврея-отъезжанта с советской таможней – особая история, которую здесь опускаю. В моем случае ее пуантой стало явление специально вызванного пограничниками эксперта (провербиального искусствоведа в штатском), который не разрешил вывезти верстку статьи о Пушкине, печатавшейся в Швеции и содержавшей небольшие схемки. (Когда в 1988 году я впервые прилетел в Москву в ходе перестройки, опять был вызван специалист, на этот раз без скрипа пропустивший гору рукописных и печатных материалов.)
3
В Европе все пошло как по маслу, только один раз слегка подгадили французы (о них ниже). Уже в Вене израильский Сохнут легко разжал свои якобы принудительные объятия (напомнив лишь, что они остаются раскрытыми) и отпустил нас Таней на попечение австрийских друзей и Международного комитета спасения в лице его местного представителя – доктора Фауста. В тот же день из Парижа позвонил Мельчук, чтобы внушить главное: отныне никакое решение не является роковым, ибо может быть в любой момент переиграно.
Правда, передислокация в Амстердам, куда у меня было приглашение на работу от Тойна Ван Дейка (эти фамилии я не выдумываю) все откладывалась, ибо Тойн затерялся где-то в Австралии и нужного письма на гербовой бумаге не слал. Но вот он вернулся, и визу, какого-то самого последнего разбора (titre de passage), выдали. В амстердамском аэропорту мы встали было в длинную въездную очередь, но были вызволены из нее Ван Дейком, свободно пересекшим символическую, но обычно строго соблюдаемую таможенную границу и быстро переправившим через нее и нас.
– Благодаря тебе, – пояснил он, – я стал своим человеком в наших дипломатических и полицейских кругах. Да, извини за дурацкую задержку в Австралии. Я там познакомился с одной красоткой… Да ты не очень опоздал – семестр только начинается.
4
Семестр семестром, но преподавал я только по вторникам и средам, а остальное время предавался оргии вымечтанных поездок по Европе, и за пару месяцев побывал с лекциями аж в семи странах. Поэтому когда в один прекрасный четверг мы с Доротеей Франк (тогдашней женой Ван Дейка; брак, впрочем, был открытый – любовные партнеры по-джентльменски исключались только в Амстердаме) столкнулись в разделявшем наши кабинеты коридоре, она с нарочитой театральностью проинтонировала: