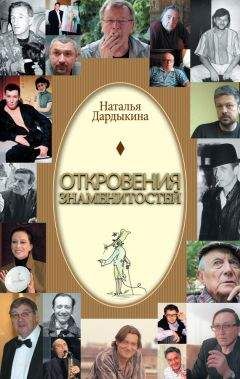Тогда Фогельман приказывал ассистенту поставить камеру на палубе, в тенечке, и снабдить ее телеобъективом. Обычно этим объективом мы пользовались, когда необходимо было наблюдать за живой природой издалека и скрытно. Частенько обезумевшие от жары биологини выпрыгивали в воду прямо из окон общежития и резвились на волнах в чем мать родила. Фогельман и Шнейдеров наблюдали за этой живой природой по очереди. Все-таки знатный якут, видимо, не зря имел претензии к Шнейдерову. Владимир Адольфович был большим жизнелюбом. В отсутствие жен наша «Камбала» преображалась. Разомлевшего шефа обступали биологини, и он рассказывал им всякие экзотические и романтические истории. О наблюдениях через телевик он, конечно, не упоминал. Впрочем, всеобщая нагота уже стала привычной, а девицы — все, поголовно, были влюблены в него и прощали ему маленькие шалости.
Однажды Шнейдеров вызвал меня и вручил потрепанный режиссерский сценарий. Это был его личный экземпляр с пометками, вопросительными и восклицательными знаками. «Прочитай внимательно эпизод номер семь, — сказал Шнейдеров, — будешь им заниматься». Эпизод был про то, как некий научный сотрудник плывет на лодке по заповеднику и ему открывается сокровенная жизнь окружающей природы. Правильнее было бы сказать, что жизнь от него скрывается, так как в сценарии было написано: «уползает змея», «ныряет в воду крыса» и «взмывают над гнездами птицы».
— Если птицы летают над гнездом, значит, они встревожены, — рассуждал я, — а если, к тому же, от научного сотрудника поспешно скрываются все водоплавающие и пресмыкающиеся, то он просто неумеха или браконьер.
— С чего это ты взял, что наш биолог — браконьер? — обиделся Шнейдеров. — Мы оденем его поприличнее. Я дам ему свой шлем и бинокль! И, вообще, легче снять зверье, когда оно убегает, а вот как его к камере подманить, я, например, не знаю.
На этом разговор и закончился. Между тем, Китаев уговорил Шнейдерова снять в роли научного сотрудника самого директора заповедника, «для укрепления связей и улучшения деловых отношений». Съемкой вынужден был руководить сам Шнейдеров.
Директор заповедника явился в своем лучшем костюме и при галстуке. На фоне камышей и бакланов он смотрелся странно, а переодеть его мы не решились. Директор глубокомысленно смотрел вдаль, дергал головой, как цапля, и безнадежно каменел перед объективом. От режиссерских команд Шнейдерова он каменел еще больше. Пришлось, из дипломатических соображений, в камеру вставить пустую кассету и весь день изображать процесс киносъемки. На роль сотрудника вместо несправившегося директора тайно определили Володю-егеря, и, конечно же, Шнейдеров немедленно поручил мне «самостоятельное задание». Чтобы не смотреть в глаза обманутому директору, Китаев и «классики» неожиданно уехали в Астрахань.
Возня с «научным сотрудником» продолжилась уже под моим руководством. Завидев камеру, Володя тоже стал каменеть и глядеть вдаль. Было что-то роковое в этом эпизоде номер семь! Чтобы не подводить нас с Гришиным, Володя очень старался, но это, пожалуй, было еще ужаснее. Если, например, я просил его оглядеться, он таращил глаза и сгибал руку козырьком, как в матросском танце «яблочко». Володя не смотрел, а изображал «смотрение». «Взгляни-ка, Володя, — просил я тогда, — этот куст вроде походит на птицу?» Вот тогда взгляд у Володи становился
осмысленным, а реакции естественными. Он переставал «изображать», так как делал нечто конкретное и понятное — сравнивал куст с птицей. Так, с помощью наводящих вопросов, больших и малых провокаций мы все-таки продвигались вперед. Появлялся даже азарт, кураж! И сам Володя чувствовал, что с ним что-то происходит. Он вел себя все увереннее, с достоинством и пониманием относясь к своей маленькой роли.
Не стоило бы, наверное, и рассказывать о таких пустяках, но эта первая встреча с «типажом» запомнилась мне и часто помогала потом в работе. В то время каждый в нашей стране постоянно чувствовал себя «под присмотром». Одним казалось, что так и нужно, так и должно быть, другие тяготились этим, замыкались в себе и привычно «делали вид». Делали вид, что счастливы и благополучны, делали вид, что слышат и понимают друг друга, и, главное, делали вид, что лояльны! лояльны! лояльны! Любое отклонение от привычного, дозволенного невольно настораживало уже и нас самих! И возникал некий замкнутый круг, а точнее, всеобщий негласный сговор! «Черна — бела не берите! «Да» и «нет» не говорите!» Объектив камеры, направленный на человека, был уже, сам по себе, неведомой угрозой: а вдруг ты выглядишь не так, как надо? А вдруг ты оговоришься или, не дай бог, проговоришься? Потому, оказавшись перед камерой, каждый, прежде всего, «делал вид» — прятал самого себя. Интеллигентный биолог и не очень грамотный егерь вели себя примерно одинаково. Эта всеобщая человеческая закрытость была тогда главным препятствием для киносъемок. Особенно в неигровом кино. Требовались большие усилия, чтобы эту преграду как-то преодолевать.
Возвращение наших руководителей затягивалось, и нам велено было самостоятельно приступать после человеческой, уже и к «звериной» части эпизода номер семь. Таким образом, весь эпизод был теперь в нашем полном распоряжении! Мы с трепетом взялись за работу. Первый кадр: «полоз поспешно уползает от биолога» мы сняли быстро. Биологини притащили полоза и поместили его в мешок. По моей режиссерской команде, мешок встряхнули и полоз талантливо уполз в тростники. Тут Шнейдеров был прав — убегающий объект снимать легче. Гришин сказал, что неплохо было бы снять дубль. Вот тут и возникли трудности — другого полоза у нас не было, а указаний на замену какой-нибудь другой змеей от Шнейдерова тоже не было. Решили пока отловить впрок несколько разных змей-дублеров, а потом действовать по обстоятельствам. Мешки со змеями Гришин, для надежности, запер у себя в лаборатории. Безвредного ужа он свернул колечком и положил в пустой кассетник. После этого мы с Володей отправились пополнять запасы живности для других кадров.
Однако и на этот раз проявилась зловредная сущность эпизода номер семь. Как только мы уехали, явились классики с женами. Фогельман никогда не оставлял мечты о «плановом отстреле осетров», тайно побуждал Володю к браконьерству и потому сразу же заинтересовался мешками, лежавшими в укромном месте в лаборатории. В мешках шевелилось что-то холодное, скользкое и округлое. «Молодцы, ребята!» — обрадовано крикнул Фогельман и потащил мешки на кухню к поварихе. Прибежали и жены. Фогельман энергично встряхнул первый мешок — на стол, вместо осетров, шлепнулся полоз и две гадюки.
Первой реакции коллектива мы сами не видели, потому что вернулись в заповедник уже вечером. Безлюдная «Камбала» покачивалась в стороне, а трап был снят. Коллектив молча ужинал на берегу у костра, Китаев неумело ставил для жены палатку. Мы присоединились к обществу, еще не понимая, что произошло.