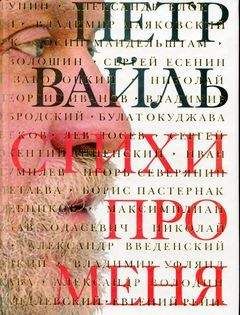Именно с этой точки моста при взгляде на Малу Страну открывается, может быть, самый захватывающий не только в Праге, но и во всей Европе городской вид: гармонично громоздящиеся башни, церкви, дома — десятиплановая ведута, составленная из готики, барокко, эклектики, модерна, под громадой Града с собором святого Витта. Экскурсоводы эту точку знают, тормозят группы, предлагают сняться. У Брунсвика — затор. Тут же играет диксиленд пузатых пенсионеров-хиппи. Тоненькая девушка в кругу слушателей рассказывает подруге, тыча рукой в сторону собора Св. Микулаша на Малостранской: "А мы вчера там на концерте были — так прикольно. Органный запил — чумовой. Ребятам орган не в кассу, а я тащусь. Баха играли — полный улёт". (Как предписано: "Не обольщусь и языком / Родным, его призывом млечным".)
Брунсвик с достоинством позирует на фотофоне. Он и вправду благородно красив — "рыцарь, стерегущий реку". Кстати, то, что звучит отрешенной метафорой, — исторический факт: статуя обозначает место, где была таможня, облагавшая пошлиной перевезенные через Влтаву товары.
Как замечательно, что у множества поэтических красот — прозаические источники. Как печально, что о множестве из них нам уже никогда не догадаться. Если б я не жил в этом городе, так и считал бы цветаевской тайнописью начало стихотворения "Прага": "Где строки спутаны, где в воздух ввязан / Дом — и под номером не наяву!" В Праге Цветаева жила в доме на Шведской улице. Его номер — 51, но еще и 1373. Диковинная пражская особенность: двойная нумерация. На синей табличке — обычный, как во всем мире, порядковый уличный номер. На красной — архаика, оставшаяся с тех средневековых времен, когда дома нумеровали порайонно (в Венеции по сей день только такая система). Красные номера, вероятно, в каких-то муниципальных гроссбухах значатся, но никому не нужны и в адресе не указываются, однако существуют, и таблички аккуратно подновляются, смущая непосвященных.
Дом на Шведской 51/1373 действительно "ввязан в воздух" — стоит на фоне неба, на склоне горы. Не просто, а Горы — той самой, о которой "Поэма Горы". В миру она называется Петршин, под ней район Смихов, где Цветаева прожила несколько месяцев. Остальное время — в деревнях. Это ведь только принято бегло упоминать: в эмиграции жила в Праге и Париже. На деле — Йиловиште, Мокропсы, Вшеноры, Кламар, Медон, Ванв. Дом на Шведской очень приличный, даже изысканный, но добираться на верхотуру в 20-е было сложно, жить там — непрестижно и неудобно. Денег же на съем квартиры в центре города не хватало.
При этом именно на Чехию у Цветаевой приходится самое благополучное время. Правительство президента Масарика давало, как мы сейчас бы сказали, гранты русским деятелям науки и культуры, причем Цветаева получала деньги и тогда, когда переехала во Францию. Чехия выделила полторы тысячи стипендий Карлова университета русским студентам — среди них был Сергей Эфрон. Русские профессора преподавали, здесь осели такие светила, как академик Кондаков, у которого Эфрон слушал курс. Автор монументального труда о православной иконографии Кондаков похоронен в крипте церкви на Ольшанском кладбище, рядом с ним — Ипатьев, в чьем доме расстреляли российского царя. Кинорежиссер Глеб Панфилов, который снимал в павильонах пражской студии "Баррандов" фильм о последних днях Николая Второго, рассказывал мне, как пришел на Ольшаны заказать панихиду по своем отце. Ему стали показывать церковь, где он и обнаружил могилу Ипатьева, дом которого так скрупулезно восстанавливал в нескольких километрах отсюда. Как все-таки причудливо рифмуется жизнь.
Любое эмигрантское кладбище — наглядный урок запутанной русской истории XX века.
На Ольшанском — братская могила воинов Белой армии, скончавшихся в Чехии от вынесенных с родины ран и болезней, надгробья советских солдат, памятник бойцам власовской армии, освобождавшей Прагу от немцев. Официально освободителем чешской столицы был объявлен Конев. В 45-м многих деятелей пражской эмиграции возвратили на родину под конвоем. Оставшиеся надолго затаились.
Второй раз — по-другому — затаились после августа 68-го. Историк Иван Петрович Савицкий, сын одного из лидеров евразийства, говорил, что в 68-м с родным братом в пивной или кафе беседовал по-чешски. Это теперь русский в Праге снова стал обиходным. В Карловых Варах — всеобщим, хоть и диковинным. Тамошние экскурсии обещают "архитектоническую единичность зданий в стиле ренезанца", врачи — "отстранение морщин" и "избавление от храп", на дверях гостиницы надписи "Нажимать" и "Таскать", в меню — "креветки по способу тигра" и трогательная до слез "ножка молодой гуси".
В русском зарубежье Прага всегда уступала в блеске Парижу, а до 30-х и Берлину: литературные и артистические звезды ехали туда, в Чехии селились ученые. Здесь расцвело евразийство, для некоторых, как для Сергея Эфрона, переродившееся в идею возвращения. Здесь выходили десятки (на пике — двести тринадцать) русских периодических изданий разного толка. Здесь на площади Угельни трх (Угольный рынок) Марк Слоним, каждый раз скандаля с соредакторами, печатал в журнале "Воля России" непонятные стихи Цветаевой.
Сто тридцать девять стихотворений написала Цветаева в Чехии за три года три месяца: почти по стихотворению в неделю — серьезный показатель душевного подъема, по крайней мере, равновесия.
Важно, что после российского революционного неустройства быт казался относительно лёгок и еще не успел так опротиветь, как это случилось в парижских пригородах. Оттуда Цветаева пишет: "Всё поэту во благо, даже однообразие (монастырь), все, кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб!" И еще: "Обваливая 11/2 кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать — нет: запах мешает! Запах мешает, клейкие руки мешают, брызжущее масло мешает, рыба мешает: каждая в отдельности и все 11/2 кило вместе". В сухопутной Чехии с рыбой, кроме разводимых в прудах форели и карпа, и сейчас неважно. Цветаевские строки "Полон и просторен / Край. Одно лишь горе: / Нет у чехов — моря" я-то воспринимаю как грустное свидетельство о мясной, свининной чешской кухне.
Душевный подъем того времени связан с Константином Родзевичем — возможно, главным любовным приключением в жизни Цветаевой.
Об этом романе — "Поэма Горы" и "Поэма Конца". Близкий приятель Эфрона, Родзевич был ошеломлен, как позже признавался, напором нежности и страсти, которому не мог соответствовать. Цветаева, впрочем, в соответствии не нуждалась, она все выстраивала сама: "В людях я загораюсь и от шестого сорта". Но дело не в разряде Родзевича, человека незаурядного, что он доказал сперва в Добровольческой армии, а потом в отрядах республиканцев в Испании, не лишенного и литературных способностей. Дело в электрическом разряде цветаевского эмоционального состояния, том лирическом атмосферном явлении, которое породило две выдающиеся поэмы.