А еще помню, как он дразнит, высмеивает своих учениц, именуя их «дырками от бублика», и вслед за этим очень торжественно, в высшей степени «академически», даже чопорно принимает знаменитого немецкого ученого, величественно представляя ему Наташу и Веру Николаевну как meine Assistenten.
Скучно в музее (мне, по крайней мере) никогда не было. Я подходил к работе в музее с увлечением — это относилось даже к подбору, вместе с Наташей, пыльных рам в подвале — самому нудному и душетомительному занятию, когда‑либо придуманному человеком, — когда Вера Дмитриевна посылала нас заниматься этим скучнейшим делом — считая (как она говорила, не нам, конечно), что «им скучно там не будет».
И в голландском, и во французском отделах я особенно любил заниматься существенно важным и строго научным делом: атрибуцией анонимных, неведомо кем сделанных картин. Я запомнил два таких занятных определения. В запаснике голландской живописи была очень курьезная причудливая картина какого‑то неведомого мастера — маньериста самого начала XVII века — «Пейзаж с большим деревом». Я нашел на нем ловко спрятанную монограмму JvG и с помощью словаря Вурцбаха выяснил, что картину эту написал некий никому в музее не ведомый Якоб ван Геель, вернув этого художника из небытия. Вера Дмитриевна очень удивилась моему открытию и, вероятно от удивления, забыла отметить имя художника в инвентарной книге. Картину пришлось открыть вторично какому‑то приезжему иностранному специалисту, монограммы не заметившему, и бедный Якоб ван Геель после полувековой дремоты в запаснике был удостоен чести быть вывешенным в голландском зале. Другая моя необычайная атрибуция относилась к красивой картине XVIII века «Туалет Венеры» из коллекции Д. И. Щукина, называвшейся у него «школой Буше». С помощью репродукции в книге Армана Дэйо я с абсолютной убежденностью определил картину как работу редкого и малоизвестного французского мастера, работавшего в Швеции, — Гюго Тарваля, и никто в этой моей атрибуции сомневаться не стал.
Должен отметить, что вместе с западными картинами Музей изобразительных искусств получил из Румянцевского музея в 1924 году богатейший Гравюрный кабинет, включавший великое множество гравюр и рисунков художников всех стран и веков — не только западноевропейских, но и восточных (японских) и русских — от Петровских времен до наших дней. Этот Гравюрный кабинет (потом переименованный в Отдел графики) вошел в состав музея как своего рода «субмузей» всей мировой графики. Отмечаю это прежде всего потому, что Гравюрный кабинет сыграл огромную роль в моей жизни.
В начале 1928 года Н. И. Романов был вынужден уйти из музея из‑за того, что чем‑то сильно «проштрафился» музейный главный бухгалтер. (В. Н.Лазарев в своих воспоминаниях о Н. И. Романове ошибочно написал, что этот уход был связан с кражей четырех картин из экспозиции — на самом деле эта кража произошла, когда Н. И. в музее уже не было.) Вскоре появился новый директор. Фамилия его была Ильин; говорили тогда, что он был отцом Раскольникова, нашего полпреда в Болгарии. Если это верно, то Ильин был некогда священником. Это был весьма пожилой высокий и плотный человек, с длинной бородой, в черных очках и с очень громким голосом — зрелище довольно устрашающее. Кому могло прийти в голову направить его в музей — не знаю. В первый же день своего прибытия он устроил грандиозный разнос своему заместителю — А. М. Эфросу за «отвратительное» хранение находящихся в музее произведений искусства: «Весь верхний этаж битком набит битыми статуями, без голов, без рук, без ног!»
Эфрос сумел объяснить этому глубоко невежественному человеку, в чем дело, что это — гипсовые слепки с находящихся в других музеях очень древних скульптур, дошедших до наших дней в таком печальном виде, — и тут же подал в отставку, не пожелав и минуты оставаться в музее при таком директоре. Ильин понял все как следует: на другой день был издан первый приказ нового директора, строго запрещающий посетителям и экскурсоводам подходить к картинам, и особенно к гипсовым слепкам, ближе чем на два метра, потому что от дыхания гипсы могут отсыреть.
Ильин очень следил самолично за точным выполнением его приказа: когда я однажды вел экскурсию в голландском зале и рассказывал о рембрандтовской «Эсфири», я вдруг обнаружил между собой и «Эсфирью» огромную фигуру директора, который грозно возопил, как я посмел встать так близко к картине. Но тут же, видимо, поняв, что сам он находится к картине много ближе меня, так что чуть ли не прислоняется к ней своим задом, притом позволяет себе не только помещаться между мной и Рембрандтом, но и бурно махать руками во все стороны, — он вдруг замолчал и быстро ретировался.
Прочие его подвиги были в том же роде: когда заведующая библиотекой Ксения Михайловна Малицкая попросила денег на выписку из‑за границы новой литературы по искусству, он спросил: «Все ли книги прочтены сотрудниками музея?» K. M. растерянно ответила, что не знает, но может быть, и не все. Тогда Ильин заявил: «Ну вот, когда прочтут все книги, тогда и будем выписывать новые». Очень быстро стало ясно, что человек этот сумасшедший, не в переносном, а самом реальном смысле слова, и он действительно вскоре после своего прихода в музей отправился на Канатчикову дачу.
В Наркомпросе, должно быть, быстро поняли, что такой директор никуда не годится. Увольнять его не стали, вероятно, из уважения к Раскольникову, а просто прислали другого человека исполнять до поры до времени обязанности директора.
Этим человеком был Жан Адамович Маурер — один из пяти лучших руководителей музея, какие были за его историю с 1924 года (Романов, Маурер, Полонский, Меркуров, Антонова). Маурер был высококультурный, высокоинтеллигентный человек, латыш, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, всегда очень тщательно выбритый, спокойный, очень корректный, главное — очень умный. Впоследствии он стал профессором Московского университета. Контраст с Ильиным был фантастический. Он мгновенно разобрался, кто есть кто в музее, и во всех своих решениях и поступках стал всецело опираться на Лазарева. Вероятно, по добрым словам Виктора Никитича он прекрасно относился ко мне и Наташе. Мне тем более приятно было постоянно иметь дело с таким человеком, потому что с 1 сентября 1929 года я, окончив университет, стал ученым секретарем музея и сидел с Жаном Адамовичем в одном кабинете (который и до сих пор директорский). Мне было тогда двадцать четыре года.
Эта работа оказалась еще увлекательнее и интереснее предыдущей, в картинной галерее. С этой последней я вовсе не порывал связи, но она вошла в состав целого, всего музея, потому что я был обязан интересоваться делами всего музея — малыми и большими, умными и совсем не умными, должен был знать всех людей и вникать во все детали жизни музея. В письме к Наташе в начале лета 1930 года, когда она вместе с Марией Борисовной, своей матерью, уехала отдыхать в Калужскую область, я писал, что никогда не думал, что у ученого секретаря так много и таких необыкновенно разнообразных обязанностей: от устройства всех пожеланий некоего американского профессора, занимающегося коптскими тканями, и до умиротворения бурного конфликта, возникшего между двумя дамами в одном из отделов музея! Ученый секретарь был своего рода центром музея, куда сходились все эти удивительно разные дела. Кто только ко мне не являлся из окружающего, не только музейного, мира! Все иностранные ученые, приходившие в музей, обращались прежде всего ко мне, и я провожал их к специалистам по их надобностям. Я умел более или менее прилично говорить по — английски и по- французски (но не по — немецки) — это сильно облегчало мое существование. Правда, на моем попечении были и некоторые совсем не увлекательные дела — в особенности это относилось к отношениям с вышним начальством, Наркомпросом. Но тогда еще не все сотрудники подобных учреждений успели превратиться в невежественных бюрократов, хотя этот процесс угрожающе убыстрялся.
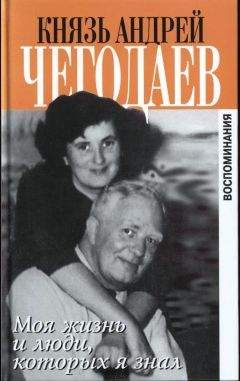
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


