В. П. Полонский сразу заметил, что музею свыше отпускаются совсем ничтожные средства на приобретение гравюр и рисунков для Гравюрного кабинета, в первую очередь мастеров советской графики. И он в середине 1930 года сумел достать огромные деньги специально для покупки работ советских художников. Они не были еще до конца израсходованы даже в конце 1936 года, когда Керженцевым, председателем Комитета по делам искусств, была запрещена покупка музеем графики советских мастеров, и это дело было передано Государственной закупочной комиссии. Но эта комиссия нисколько не интересовалась пополнением коллекции Музея изобразительных искусств, да и не имела никакого понятия, что в музее есть и что ему нужно. А я занимался собиранием музейной коллекции советской графики с увлечением. С тысячи листов в 1931 году, когда я начал собирательскую работу, я довел коллекцию к моменту своего ухода из музея в Издательство до десяти тысяч листов, сделав ее по своему богатству первой в мире.
Экс — оффицио, как ученый секретарь, я должен был проводить заседания специальной закупочной комиссии, в которую вошли Н. И. Романов, В. А.Фаворский, М. З.Холодовская и другие. И я, до тех пор советской графикой почти не интересовавшийся, увлекся ею. С этого началась целая новая эпоха в моей жизни, о которой, как и о других личных делах ближайших лет, я расскажу немного позже, отведя сначала место для отчета об общих делах музея до начала войны.
Полонский был худой, немного выше среднего роста, с прекрасной темной шевелюрой, которую он ерошил и откидывал назад, с огромным носом как у Мейерхольда, (Г. С.Верейский в своем очень похожем литографическом портрете В. Н. Полонского изобразил его строго в фас, смутившись, почему‑то, чересчур большой длиной его носа!), очень темпераментный, экспансивный, склонный к коротким и резким вспышкам, и очень умный — я думаю, что его характер был явно деформирован тем тяжелым положением, в которое он попал в «год великого перелома». В чем его обвиняли, не знаю, но могу довольно надежно предположить, что в том же троцкизме, который толковался тогда широко и вольно, сообразно умственным способностям обвинителей.
Если, придя в музей и не найдя меня в нашем кабинете, Полонский спрашивал, где я, и ему отвечали — «в Гравюрном кабинете», он никогда не сердился. Поэтому, когда в феврале 1932 года я попросил его отпустить меня из ученых секретарей, чтобы я перешел работать в Гравюрный кабинет и занимался там советской графикой, — он нисколько не удивился и согласился без всяких разговоров на мою просьбу. А сам улетел в Уфу выступать с каким‑то докладом, в дороге заразился брюшным тифом и в Уфе умер, избежав гораздо более горькой судьбы, явно ожидавшей его в 1937 году.
Я сохранил добрую память об этом человеке, простив шум и крики в возмещение обид, не мною ему причиненных.
Жан Адамович некоторое время после прихода в музей Полонского оставался его заместителем, но в середине 1931 года из музея ушел. Они никогда с Полонским не сталкивались и не ссорились, но, видимо, не сошлись характерами, а кроме того, Жан Адамович явно не привык быть чьим‑то заместителем. Мы очень огорчились его уходом, а на прощание решили сфотографироваться на память. Фотография получилась очень хорошая — на ней Жан Адамович, В. Н.Лазарев, В. Д.Загоскина, Наташа и я, но в ней, к сожалению, есть большой изъян: когда фотограф уже готов был щелкнуть затвором, вдруг в комнату нежданно-негаданно вошел А. А. Сидоров и присоединился к нашей группе. Он был совершенно лишним, но прогнать его постеснялись.
Это была, вероятно, последняя фотография В. Д. Загоскиной: в октябре того же 1931 года она внезапно умерла — из‑за безобразно, с преступной небрежностью сделанной операции. У меня был приготовлен для нее подарок к ее возвращению из больницы — томик стихов Суинберна, он так у меня и остался с уже сделанной дарственной надписью.
Хочется мне вспомнить и еще некоторых добрых людей, с которыми я соприкоснулся в первые годы моего пребывания в музее.
Замечательным человеком был старший вахтер музея. Он был украинец, его звали Григорий Емельянович Жовтобрюх. Несмотря на такую смешную фамилию, это был солидный, высокий и очень полный человек. Молчаливый и сдержанный, он очень спокойно командовал своей армией технических сотрудников, состоявших в основном из стариков, оставшихся еще от прежних времен. Он сам, несмотря на свою грузность, участвовал в развеске картин, храбро лез на верхушку гигантской стремянки и кончил свои дни трагически, упав с этой стремянки. Он очень сильно расшибся, уже не встал и скоро умер. Я должен сказать, что у меня с ранних лет были привиты демократические наклонности, поэтому никакого различия в отношении к людям не было. Я совершенно одинаково относился и к Полонскому, и к техническим сотрудникам. Это, очевидно, отмечалось, потому что элементы какого‑то барства и исключительности проявлялись у очень многих сотрудников. Например, жена Владимира Казимировича Шилейко — Вера Константиновна, которая занималась итальянским Возрождением, была очень надменная важная дама, она могла говорить «ты» старикам, которые сидели в залах Микеланджело и были вдвое ее старше. Но она была глупая женщина, так что это не удивительно.
Из музейных стариков я помню еще двух: Козлова, который сидел всегда в египетском зале, и Арнаухина. Это были те самые старики, которые дремали в углах тихих, абсолютно пустынных залов еще в 1915 году, когда я в первый раз в этот музей попал, и составляли какой‑то постоянный признак музея.
Когда умер Григорий Емельянович Жовтобрюх, его сменил в качестве главного развесчика Крюков. Его все звали по фамилии, и я не знал, как его зовут. Маленький, худенький человек, похожий на муравья, с каким‑то скрипучим писклявым голосом, главным образом из‑за того, что у него совершенно искривлена нижняя челюсть. Он был, вероятно, ранен еще на Первой мировой войне. Он храбро лез на стремянку, которая его, наверное, и не чувствовала из‑за его худобы и легкости. Он очень усердно всегда работал, но сам никакого интереса не представлял в человеческом смысле. Куда он делся, я не помню.
Дмитрий Николаевич и Юлия Николаевна Чегодаевы. 1902 год
Николай Иванович Малинин
Константин Леонидович Гиршфельд. 1916 год
Андрей Чегодаев. 1908 год
Дмитрий Николаевич Чегодаев с сыном Андреем. 1909 год
Митя, Катя и Андрей Чегодаевы. 1915 год
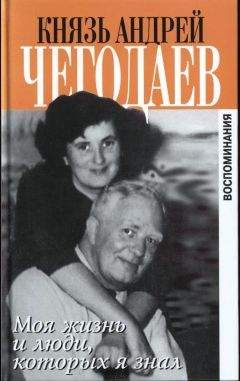
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


