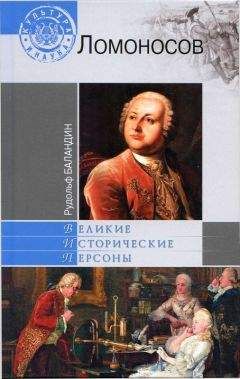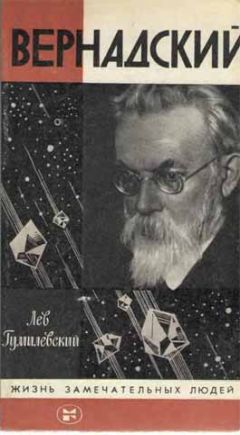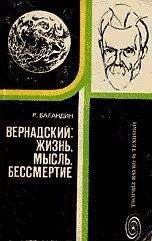Вспомним Гёте: «Первое и последнее, что требуется от гения, — это любовь к правде».
Все этические принципы, безусловно, идеальны. Исполнять их в полной мере способны не все и не всегда. В особенности если ученый находится в услужении у имущих власть и капиталы. Но без соблюдения этих принципов невозможно сделать фундаментальных научных открытий.
Есть еще один важный фактор, определяющий возможность научных исследований с использованием более или менее сложных опытов: научная техника и технологии. Со второй половины XIX века из-за усложнения физических и химических опытов, началось разделение ученых на теоретиков и экспериментаторов. Во времена Ломоносова ученые совмещали две эти профессии.
В «Элементах математической химии» (1741) Ломоносов отделяет теоретическую химию как философское осмысление «изменений смешанного тела» от практической. Делает вывод: «Истинный химик должен быть теоретиком и практиком». Поэтому стремился иметь специальную лабораторию для проведения опытов.
К этому времени он стал истинным ученым: ясно представлял себе особенности научного метода познания и основательно изучил историю естественных наук вплоть до изданий последних лет. Несмотря на это, он оставался адъюнктом Академии. Оскорбительное унижение! Нетрудно понять возмущение Ломоносова. А тут еще арест и постоянная бедность.
«Материальное положение заключенного адъюнкта было поистине ужасно, — писал Львович-Кострица. — Из прошения его в июле 1743 года явствует, что к этому времени им было получено только две трети жалованья за 1742 год. Ломоносов пришел «в крайнюю скудность». Не на что было купить не только лекарства, но даже «дневной пищи», а взаймы достать денег он не мог. Академия отпускала ему по 5–10 рублей, и то только после его прошения, а иногда, за неимением наличных сумм, выдавала «для пропитания» академические издания, которые Ломоносов и продавал за то, что дадут».
Вообще-то цены на книги были немалые, так что продажа их позволяла Ломоносову кое-как сводить концы с концами.
В Академии вновь произошел переворот. Недовольные хозяйничаньем Нартова, даже русские его сторонники (Тредиаковский, Ададуров, Теплов) высказались в защиту Шумахера. Нартов был отстранен от руководства, Шумахера признали виновным в нецелевом, как теперь говорят, использовании сравнительно небольшой суммы (на вино для угощения почетных гостей), оправдали и вернули на прежнюю должность.
Казалось бы, теперь-то с Ломоносовым расправятся по всей строгости закона. Но получилось иначе. В середине января 1744 года по докладу Следственной комиссии Сенат постановил: освободить адъюнкта Ломоносова от наказания, обязав просить прощение у профессоров. Жалованье на текущий год ему сократили вдвое.
Пока Михаил Васильевич отбывал наказание — сначала под стражей, а затем, заболев, дома, — произошли значительные изменения в его творчестве и личной жизни.
Одновременно с Тредиаковским и Сумароковым он переложил на стихи 143-й псалом. Все три варианта были вскоре изданы. Вариант Ломоносова выглядит предпочтительней (о чем мы уже говорили). Возможно, такого же мнения придерживалась императрица Елизавета, иначе трудно объяснить снисходительное отношение к нему сенаторов, решивших не подвергать его строгому наказанию.
Он покаялся перед академиками за свое недостойное поведение. Через полгода императрица вернула ему полное денежное довольствие; и это еще одно, пусть и косвенное, свидетельство ее уважительного отношения к нему как поэту.
По предположению Г.П. Шторма, примерно с этого времени началось неприязненное отношение к нему Тредиаковского (его все еще не принимали в Академию) и, добавим, Сумарокова. Пожалуй, они понимали, что стихи Ломоносова превосходят их собственные. Эта неприязнь вылилась в несколько не столько остроумных, сколько злобных и несправедливых эпиграмм.
…Прошло более трех лет с тех пор, как Михаил Васильевич покинул Марбург, оставив там жену Елизавету Христину с годовалой Екатериной-Елизаветой. В конце 1741 года у нее родился мальчик, умерший через месяц. И осталась она как бы вдовой при живом муже, от которого не было вестей. Нетрудно понять ее тяжелые переживания.
Михаил Васильевич чувствовал свою вину. Ведь он обещал жене вызвать ее в Петербург при первой же возможности. Но обстоятельства складывались неблагоприятно. Вместо того чтобы объяснить это жене, он трусливо отмалчивался и, сознавая это, пытался заглушить голос совести. Не потому ли у него были нервные срывы и временами он прибегал к традиционной русской панацее от всяческих бед — водке?
Жена не выдержала гнетущего состояния неопределенности (чреватого, как известно, психическими расстройствами, депрессиями). В феврале 1743 года она написала письмо мужу. Через русского посланника в Гааге графа Головкина оно пришло канцлеру А.П. Бестужеву-Рюмину, который передал письмо академику Штелину. По словам последнего, Ломоносов, прочтя послание жены, воскликнул:
— Боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину! Обстоятельства мешали мне писать ей и тем более вызвать к себе. Но пусть она приедет, когда хочет; я завтра же пошлю ей письмо и сто рублей денег.
Судя по всему, жена упрекала его в том, что он забыл о ней и о ребенке. По свидетельству Штелина, Ломоносов на другой же день выслал жене 100 рублей. Она вскоре приехала и нашла мужа «здоровым и веселым, в довольно хорошо устроенной академической квартире при химической лаборатории».
Львович-Кострица прокомментировал эти слова просто: Штелин «заврался». Во всяком случае, о хорошо устроенной квартире и химической лаборатории Михаил Васильевич еще только мечтал. Где он раздобыл 100 рублей, остается только догадываться. Если он действительно сказал, что жена может приехать «когда хочет», это может означать: он не торопил ее с приездом, ибо находился в трудном материальном положении.
Елизавета Христина Ломоносова-Цильх не стала медлить. Получив от мужа письмо и деньги, она приехала в Петербург вместе с дочкой и братом Иоганном, который был принят копиистом в академическую канцелярию. Дата ее приезда точно не установлена. По разным авторам — в промежутке между ноябрем 1743 и июлем 1744-го.
Благоволение императрицы продолжало сказываться на судьбе Михаила Васильевича. Об этом знал, по-видимому, Шумахер. Он не придал значения серьезному инциденту: вспыливший Ломоносов ударил шандалом по лицу переводчика Голубцова, с которым повздорил. Скорее всего, переводчик плохо знал свое ремесло (на некоторых его текстах множество исправлений и замечаний Ломоносова), не желая этого признавать, и во время спора позволил себе оскорбительное замечание в его адрес… Непростой и нелегкий характер был у Михаила Васильевича.