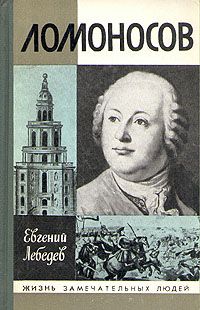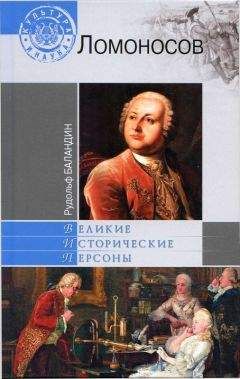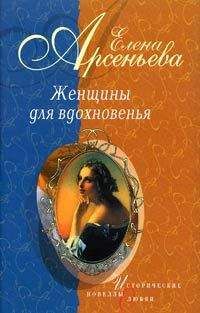Словом, если попытаться глазами современника событий взглянуть на обстановку в верхах русского общества 1740–1750-х годов, то надо будет признать, что все-таки с приходом Елизаветы Петровны к власти, будто после лютой зимы, повеяло весною. Взойдя на престол, Елизавета приблизила к себе русских, она была веселого и открытого нрава, любила русские обычаи, сочиняла стихи в духе народных песен, истово соблюдала православные обряды. Она отменила смертную казнь (что имело немаловажное значение, поскольку память о кровавых расправах Бирона была еще совсем свежа). В царствование Елизаветы российские войска под руководством славных военачальников (П. С. Салтыкова и более молодых П. А. Румянцева и П. И. Панина) развеяли все-европейский миф о непобедимости прусской армии Фридриха Великого. И, наконец, Елизавета была дочерью Петра I! Все это не могло не вызвать патриотического подъема среди подданных.
Кроме того, воцарение Елизаветы Петровны самым непосредственным образом отразилось как на личной, так и на творческой биографии Ломоносова.
Когда Ломоносов 8 июня 1741 года явился в Канцелярию Академии наук доложить о своем прибытии, это был уже сложившийся молодой естествоиспытатель со своим методом, своими темами и идеями в физике, химии, геологии и других науках, оригинальный мыслитель, нацеленный на универсальное постижение мира и человека, глубокий теоретик языка и словесных наук и, наконец, гениальный поэт, чью необъятную, отзывчивую и страстную душу тревожили грандиозные образы, чье сознание непосредственно и ясно усматривало абсолютную новизну тех истин и дел, которые ему надлежало воспеть, а также безусловно пророческий характер его миссии в истории русской культуры.
Если даже беглым взглядом окинуть главные вехи всего предшествующего пути Ломоносова, то нельзя не подивиться идеальному совпадению его личных устремлений с требованиями внешней необходимости. Только один раз, только в самом начале он выступил вопреки внешней логике, внешнему предложению. Поморская среда, давшая мощное ускорение задаткам, заложенным в нем от рождения (феноменальным по разнообразию, глубине и органичности, то есть способности к саморазвитию прежде всего), могла предложить ему лишь движение по кругу интересов и дел, завещанных традицией. И он — прорвал его. В самом его уходе было нечто пророческое (на что и обратили наше внимание Радищев и Пушкин). А потом — всякий раз, когда государство испытывало существенную потребность в чем-либо, Ломоносов, как никто другой, соответствовал государственным запросам. Так было в 1735 году, когда в Петербурге вспомнили о необходимости воспитывать национальные кадры. Так было в 1736 году, когда государственный запрос был предельно конкретен. Ломоносов же оказался вне конкуренции (несмотря на свои уже отнюдь не «юные» годы). Наконец, так было и в 1741 году, когда он вернулся из-за границы, готовый во всеоружии своих энциклопедических уже тогда познаний и своего совершенно уникального темперамента не только ответить на любой внешний запрос, но и предложить собственную программу всестороннего культурного развития Отечества, в которой были бы учтены как сиюминутные потребности, так и дальние цели. После ноябрьского переворота 1741 года России был нужен именно такой человек. (Здесь, кстати сказать, лежит еще одно — внешнее и весьма выгодное — отличие Ломоносова от Тредиаковского, который вернулся из-за границы, чтобы начать свою просветительскую деятельность в пору, исключительно невыгодную для русского просветительства вообще и для его конкретных представителей в частности.)
Однако же было бы неверно представлять себе дело таким образом, что судьба во всем только улыбалась Ломоносову. В высшей степени неблагоприятная для него обстановка сложилась внутри Академии к моменту его возвращения из Германии.
За время его обучения произошли важные перемены в высшем академическом начальстве. Барон Корф, в течение шести лет своего президентства (1733–1740) ожививший работу Академии по воспитанию молодого поколения русских ученых, в 1740 году был направлен посланником в Копенгаген. Сменивший его на президентском посту Карл фон Бреверн (1704–1744) руководил Академией всего лишь около года и за полтора месяца до возвращения Ломоносова перешел на службу кабинет-секретарем к Остерману, чтобы после ноября 1741 года подвергнуться опале. Нового президента не назначали, и находившийся до сих пор как бы в тени Шумахер стал полным и единовластным хозяином Академии вплоть до 1746 года, когда, уже при Елизавете, президентом стал К. Г. Разумовский (впрочем, и при нем он вершил делами, вновь отойдя в тень). Как раз Шумахеру и должен был доложить о своем прибытии Ломоносов.
Академия по-прежнему работала без Регламента, что было на руку Шумахеру и крайне затрудняло работу ученых, создавая юридически и этически неопределенные ситуации, провоцируя новые и новые столкновения между ними, никакого отношения к науке не имеющие.
Наконец, к 1741 году наиболее значительные научные силы ушли из Академии. Как писал в конце своего пути Ломоносов, «не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернуллиев и других, во всей Европе славных, как только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но, Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слезы». Действительно, отъезд из Петербурга Германа, Бюльфингера, Д. Бернулли, ранняя смерть Н. Бернулли не только принесли ущерб начинающейся петербургской науке, но и во многом затруднили как начало, так и весь последующий творческий путь самого Ломоносова. Если к этому добавить, что как раз в июне 1741 года Леонард Эйлер выехал из Петербурга в Берлин, то есть практически сразу по приезде Ломоносова из Германии, то можно без всякого преувеличения сказать, что ломоносовские «досада и сожаление» по поводу ухода из Академии крупнейших ученых отражали не только государственную, но и его глубоко личную точку зрения. В сущности, к 1741 году из Петербургской Академии уехали ученые, чей светлый ум отличался широтою научных интересов. В первую очередь это относится к Д. Бернулли и Эйлеру. Каждодневная научная работа именно в таком окружении — вот что было необходимо для универсального по своим устремлениям гения молодого Ломоносова. Его же на первых порах, да и на протяжении всего дальнейшего пути ожидало либо глухое непонимание со стороны оставшихся в Академии ученых, мышление которых в большинстве случаев было ограничено рамками их научной дисциплины, либо явная или скрытая вражда бюрократической ложи, руководимой Шумахером.