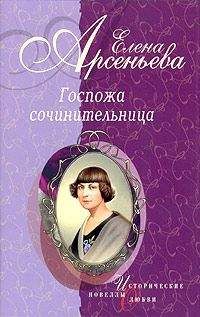Я не помню, когда в эту марсельезу стал ввиваться подленький мотивчик, «mein lieber Augustin»[7] — мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Да если б и помнила всю польскую ситуацию тогда, всю их партийную борьбу и подталкиванья Европы — не стала бы писать. Не стоит. Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки наши — конечно, кричали, что ничего не будет, — да ни за что в жизни! И Пилсудский против мира, да и как можно!
Не то было среди крайних правых и крайне левых.
Я забыла сказать, что приехала жена Деренталя — эта самая Aimee. Во время наших свиданий с Савинковым в Брюле он как-то мне сказал: «Деренталь просил у меня позволения выписать жену. Я сначала сказал — как хотите, это ваше семейное дело. Но потом вспомнил, что ведь она может быть полезна. Она будет составлять телеграммы во Францию, она владеет языком, как француженка. И работала в мае в Унион».
К этому времени Савинков перешел в Брюле в другой номер, где в первой комнате была контора, а крошечная за конторой — его. Свою же комнату (где мы «заседали») он отдал ей. Сделав нам визит — она нас пригласила к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната: розовые капоты, пахнет пудрой, много цветов. Она — ничего себе, вид крупной еврейки, яркая, с накрашенными губами, кокоточная, сделана для оголения, картавит.
Черные волосы; на грубый вкус красивая. Деренталь говорил Диме: «Моя жена очень умеет с Борисом Викторовичем обращаться, если что-нибудь — так надо к ней».
По правде сказать, Савинков мне все менее и менее становился понятным, — не говорю менее приятен, ибо это могло быть моим личным делом и не важным, — но именно непонятен; в памяти у меня даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся для меня непонятным в Савинкове во время Корниловского дела. Почему он, тогда, после всей его возни с Корниловым против Керенского, после всего, что было на наших глазах, чуть не в нашей квартире, и в линии очень определенной, — вдруг сделался на три дня «усмирителем Корниловского бунта» и лишь потом был Керенским изгнан? Этого нам он объяснить тогда не сумел, но сумел затереть вопрос до забвения.
Теперь я, сама, впрочем, не отдавая себе в этом отчета, — вспомнила.
Да, работать с ними вместе — нельзя, нам, по крайней мере. Просто фактически невозможно. Объективно — я перестаю верить в успешность дела именно с Савинковым, благодаря многим его свойствам, которые прежде ускользали из моего поля зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, это — что он людей не различает, никого не видит. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны при этом.
И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все и не отходить до конца, до последней возможности. Ведь — Дима! Не то, что я бы осталась ради Димы в глупом и вредном деле вредного или ненужного человека; но мне верилось, что мы уйдем вместе с Димой, если именно так выяснится, и выяснить поможет мне Дима, ая — ему.
Когда все стало невозможным?
Уже был Балахович. Сначала он звонил мне, жаловался на Брюль, я устраивала свидания (тоже по телефону), и внезапно оказалось, что Балахович уж с ними. Ну, ладно, все хорошо.
Но мы очутились в полной пустоте и безделии. Отчасти благодаря событиям: большевики полезли в наступление. Наш отряд был в полной неготовности и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неумения. Закулисную сторону я знала мало, но все-таки видела, что Савинков организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии совершенно людей не собирают, а отталкивают.
Дмитрий томился: «Знаешь, уедем хоть недели через две, ну на десять дней хотя бы. Ведь нам буквально нечего делать!»
Пришел как-то Дима. Дмитрий и к нему: «Знаешь, недели через две.» Дима прервал его: «Не через две, а теперь уезжайте, тут действительно пошло такое, что лучше уехать, вернетесь, когда выяснится. Только не уезжайте из Польши», — прибавил он вдруг.
И мы уехали в Данциг.
Поляки все время посылали просить о мире. Не знаю, что случилось (почему и как было это пресловутое «чудо под Вислой»), но Варшаву не сдали, и после этого самого «чуда» большевики сделались сговорчивее, перемирие вскоре (не без скандалов и издевательств, впрочем) было подписано в Минске. Быть может, я путаю числа, но во всяком случае — все уже как-то замирились, о взятии Варшавы речи не было, и, несомненно, все шло к миру. Мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть. Была ли у меня надежда? На что? Конечно, нет. Буквально ни на что больше, и даже не было надежды выцарапать Диму из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно сделать и увидеть все.
Мы вернулись в начале сентября — это наш третий варшавский период, последний и самый несчастный.
Прямо на Хмельную, где у Димы не то редакция, не то какие-то заседания.
Ну, с муками устроились в невероятно грязной Виктории, такой грязной, что даже написать — сам не поверишь. Большая комната, две кровати за ширмами, во втором этаже, дверь на балкон (старая, в щелях, и на полу стояла асфальтовая лужа, ее потом вычерпывали. А затем нас ночью через балкон обокрали).
Я с величайшей строгостью задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, хотя бы только перед собой, даже втайне, ни тени чего-нибудь не объективного. Я должна была быть справедлива. Ничто мое пусть не ввивается в мой суд. И если в чем виновата я — не скрою от себя.
Ведь разве трудно поддаться таким чувствам: «мы» оказались не у дела; и главное, главное — разделил нас с Димой, совершенно взяв его под свое влияние; значит — Савинков нехорош. Вот этого-то я и не хотела. Вот такого-то суда над Савинковым и не принимала. Я желала и добивалась полной справедливости даже не как к Савинкову-человеку в первом счете (это само собой), но в вопросе пригодности его в данный момент для дела России.
И я видела, что он для дела ни в данный момент, ни вообще не пригоден.
Лично (т. е. помня о Диме, обо мне, о нас) у меня могло бы быть, с этим выводом, злорадство; но у меня было горе и ужас: здесь другого-то, пригодного, не имелось нигде! Ведь на него у нас была главная надежда, и его приезд я считала величайшей нашей удачей!
Да, горе, ужас, а из личного — только стыд, пожалуй, стыд, что я могла так обманываться в человеке. Стыднее, чем о Керенском. Этот стыд еще и не позволял мне окончательно и открыто сказать себе то, что оказалось впоследствии, скоро: Савинков — пустота. И я ведь своими руками ввергла Диму в эту обманную пустоту.
Я решила дотерпеть и «досмотреть» все до конца: конец уж ясно, по всей линии, для нас намечался — отъезд. Я ничего не могла противопоставить Дмитриеву стремлению уехать в Париж, это стремление было верное.