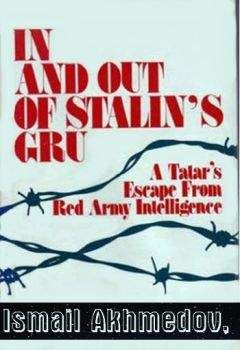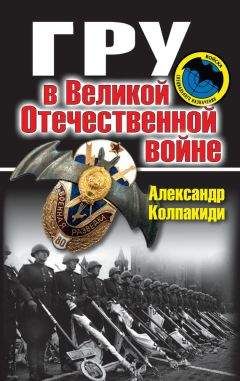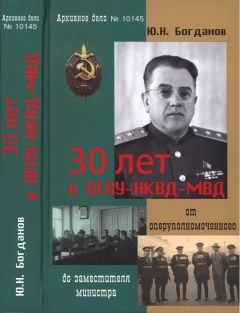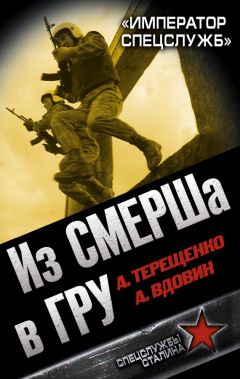Особенным ударом для нас, молодых офицеров, в то время было закрытый процесс 1937 года в Верховном Военном Суде над Михаилом Николаевичем Тухачевским, нашим великим героем революции, и над семью другими высшими командирами Красной Армии. Портрет Тухачевского висел в залах моей курсантской школы, в залах Ленинградской академии. Подобные почести оказывались ему в институте до следующего дня после суда. Это был портрет, очаровавший нас, юношей и изображающий его не в военной форме его ранга, а играющим на скрипке, по части которой он был почти виртуозом. Он был нашим идолом. Мы были готовы сражаться до смерти под его командованием. Тем не менее, он был обесчещен, как сообщала газета Известия, обвинен в предательстве, имевший, якобы, связи с немцами, затем приговорен к смерти и расстрелян.
Позднее, мы стали свидетелями, даже с некоторым удовольствием, как несколько членов этого же верховного суда, в свою очередь, были обвинены в таких же грехах и казнены. Одним из них, в котором я видел личный интерес, был Н.Д. Каширин, когда-то командир красной кавалерии, который годами ранее преследовал генерала Дутова, вынудив, мою семью и меня бежать из Орска.
В 1938 году, почти сразу, как я был принят в качестве курсанта Академии Генштаба, начался крупнейший процесс против «антисоветского, правого, троцкистского блока». Основными обвиняемыми из девяти человек были Николай Бухарин, бывший редактор Правды, и Генрих Григорьевич Ягода, один из наиболее зверских начальников государственной безопасности. К тому времени я даже больше стал устойчивым к этим делам. Мой единственный интерес вызвал тот факт, что обвиняемые были принуждены признаться в своих грехах прежде, чем они были приговорены и расстреляны.
Учеба в Академии Генштаба была интересной, вызывающей и весьма требовательной. Предметами были основы, но исчерпывающие, тактики, операционное искусство, стратегия и работа генерального штаба. Здесь было много чтения о прошедших великих битвах и также мелких, но важных сражениях, а также о возможных великих битвах будущего. Здесь были тысячи карт для изучения и десятки за десятками лекции, на которых мы должны были присутствовать. Я фанатически бросился на эту работу со всем моим воодушевлением, чувствуя, что я нашел себя, и это было мое настоящее место. И Гитлер, проглотивший Австрию, затем выступивший против Чехословакии, а также патриотизм покрасили мои мысли и усилия. Я костями чувствовал, что нацистская Германия через некоторое время выступит против нас и я хотел быть полностью способным служить моей стране.
Я принимаю также, что мое поведение, возможно, было механизмом бегства. Самоотверженность, подобная этой, подсознательно помогла мне преодолеть мои отвращения к чисткам. Однако, ужас был слишком широко распространен, чтобы я мог его полностью преодолеть.
К концу 1938 года, идя по улице Горького, я встретился с высоким человеком, которого я едва смог признать. Было ужасно его видеть. Его щеки обвисли и были мертвенно бледны. Его глаза глядели пронзительно и почти беспомощно. Он был тощим и голодающим человеком. Он прихрамывал, и одна рука казалась искалеченной. Он заговорил первым. «Здравствуй, товарищ Ахмедов», он квакнул, «не помните меня?» Да, я узнал его голос, даже с кваканьем. Он принадлежал полковнику Габерману, награжденному многими орденами герою гражданской войны, когда-то секретарю партийного бюро Ленинградской академии.
Он подошел ко мне ближе, сказал, будто в спешке, что был арестован, избит, подвергнут пыткам, затем сослан в концентрационный лагерь, позднее освобожден и «реабилитирован».
«И что сейчас?», спросил он. «Я не гожусь ни для чего, даже для моей жены. Будь они прокляты, прокляты на веки». Затем он добавил: «Однако, я должен покинуть вас. Я опасен. Я как вирус» и пошаркал прочь. То была моя последняя и наиболее жуткая связь с чисткой. Ее результатом была моя еще более сильная работа в Академии, равносильная отчаянию. Через год, однако, с началом Второй мировой войны и после того, как Гитлер разбил Польшу, мои теоретические занятия внезапно были отменены.
В середине ноября 1939 года Академия Генерального штаба приостановила свои операции. Мне, всем моим коллегам — курсантам, всем моим преподавателям было приказано отбыть немедленно в ленинградские штаб-квартиры. Нам не дали дальнейших инструкций, мы знали лишь то, что Советский Союз держал курс против финских пограничных укреплений около Ленинграда. Нашими распорядками были полевые распорядки и Тамара и жены всех других, семьи остались дома.
По-видимому, в отмене занятий в Академии Генштаба в середине ноября был обдуманный элемент драмы. Это было время после обеда, и мы находились в классе карт. Без стука, вошел дежурный и что-то прошептал нашему преподавателю. Класс был отменен без промедления и нам всем приказали собраться в конференц-зале, построенными в шеренгах по два. На дверях, вооруженные часовые отмечали на листах наши имена. После того, как были проверены другие классы, вошел начальник академии и поднялся на трибуну в сопровождении своего комиссара и начальника штаба. Быстро и резко наш начальник говорил нам, что по совершенно секретному приказу начальника Генерального Штаба Красной Армии нам следует отбыть в штаб Ленинградского военного округа «для выполнения особых задач нашей партии и правительства». Он затем дал нам четыре часа на сборы и приказал прибыть на специальный поезд, направляющийся в Ленинград.
На следующее утро мы прибыли в бывшую столицу и были расквартированы в офицерской гостинице. Мы не были заточены в номерах, однако, нам не выдавали никаких увольнительных на срок, более чем шесть часов, и тем более на ночь.
Здесь мы прождали десять дней. Мы использовали увольнительные для повторного ознакомления с городом, поездки вдоль Невы и посещения старых друзей.
Среди нас был курсант, энергичный, почти сорвиголова, полковник, который служил в операционном отделе Ленинградского военного округа перед поступлением в Академию Генштаба. Он был профессионал, награжденный орденом Красного Знамени за героизм во время гражданской войны, и затем закончил Военную Академию им. Фрунзе. Хотя и коммунист, он был очень откровенный, и потому его могло понести. Он потчевал нас слухами о скандалах с заслуженными советскими генералами. Среди них был рассказ о том, как маршал Семен Буденный убил свою жену, прекрасную балерину, обвинив ее в шпионаже в пользу Германии.
После обеда 26 ноября 1939 года этот полковник возвратился в гостиницу после посещения старых друзей в военном округе. Довольно взволнованный, он подошел ко мне и нескольким курсантам в вестибюле и сказал: «Так, товарищи, согласно приказу из Москвы наша собственная артиллерия открыла огонь по нашим войскам на Карельском перешейке. Завтра начинается война, и этим вечером мы все отправляемся в войска. «Протест» финнам, обвиняющий их в артиллерийском обстреле, уже доставлен. Не смешно ли?»