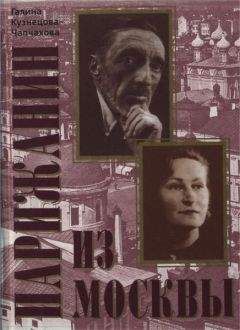Остаётся дивиться проницательности Ивана Сергеевича, его выстраданному открытию «внутреннего устройства» Ольги Александровны. Наверно, оно под силу лишь очень преданным и цельным мужчинам, а ещё, может быть, поэтам. В русской литературе, действительно, очень мало женщин-девушек, отказавшихся от «радостей жизни»: Аглая, Мисюсь, Лиза Калитина…
И, кто знает, как получилось бы с Дари самого Ивана Сергеевича в его романе «Пути Небесные», с женщиной столь редкого духовного и чистого горения, которую он едва успел запечатлеть литературно, прежде чем её потеснили на практике совсем иные героини. Своё право высоко ставить женщину он выстрадал. В этом выборе он уважал себя.
Вот о чём он иногда думал в бессоннице, в болезнях, в неизбежном упадке сил после длительного напряжённого труда, глядя на «духовное содружество» Ильина и его жены: «Знаю я, какая внутренняя сила в таком содружестве. Ныне лишён сего. Но это… лишь в ощутимом, земном, Плане…» И.С. размышляет о будущем времени в Евангелии, ведь ему предстоит встреча на «том свете»: «И времени уже не будет, время там, где материя. Для внематериального нет и времени. А — всё всегда… полная полнота всем — всеполнота — всенасыщенность всем — вседовольность и «вечный покой». Я никогда не ощущал времени мигом мысли. Проспать миллионы лет — и не почувствуешь». Так он понимает время встречи с Олей там.
Таким ощущением он наделяет и Олю Средневу в «Куликовом поле», тоже чистое ангельское создание, разгадавшее смысл явления Старца с крестом — Сергия Радонежского: «Века сплюснулись, и через 500 лет явился Угодник». Заметим: это как бы не он наделяет свою героиню ощущением сплюснувшегося времени, а сам ведом ощущением героини.
Таким же качеством времени Шмелёв пытается объяснить себе и рассудочно-настороженное отношение Ольги Александровны к постели, убийственно-холодное упрямое непонимание ею, самым дорогим для него человеком в последнее десятилетие его жизни, его естественного желания. О, это ужасное, с расхожей точки зрения, его унижение: «хотя бы один раз!» И ответ-вопрос подруги: «Всякий раз, как после праздника, испытывать пустоту «зачем он был»?» И напоминание ему, автору, о возвышенной любви Ильи к Анастасии в «Неупиваемой Чаше». Что же он хочет после этого?
Нет, всё непросто в этом мучительном, изматывающем противостоянии.
Чтобы раз и навсегда оставить изболевшую тему, О.А. грозно предупреждает, что, случись это, она «самоуничтожится». Но И.С. давно отступил! Он простил, он даже почти забыл. Но он так долго бился над неразрешимой загадкой и он её разгадал: полуженщина, demi-vierge!
Он выстрадал и назвал своё открытие надмирным, неземным и вневременным. Он всячески будет защищать свою Беатриче Ольгу Александровну от И. А. Ильина, от возможной иронии или осуждения:
«В ней есть несомненная, яркая русскость и страшный душевно-духовный опыт предков. Поколения — левитские, по отцу — по матери. Помню, в деле следствия об убиении царевича Димитрия (студент МГУ Иван Шмелёв, будущий юрист, слушал лекции В. Ключевского) по указу царя В. Шуйского, в числе показывающих на допросе был не то пономарь, не то дьякон Суббота… Дед и прадед Ольги Александровны священствовали в Угличе… Да, опыт левитских предков. Страшный груз… — сколько взято на душу всего поведанного на исповедях! Сколько шлаку! О «золоте» на исповедях не говорят, но оно блестит порой — и оно отложилось в «сундуках» предков. У Ольги Александровны часты «проникновенные», «символические» (знаменующие) сны. Много их в её письмах. Она умеет писать. Вот почему я ухватился за «дарованье» — это бесспорно. Но — о горе! — нет выдержки. А есть и слова, и глаз, — особенно к свето-тени… и сердце. Но… всё проходит вспышками».
И далее: «Скольжение. Странный характер — удивительная мягкость и порой — непостижимая жёсткость, такая крутая смена… Жизнь не вышла. Отсюда — броски, швырки — отсюда — «кривит ножки», как стыдливые (смущающиеся) дети, когда ими любопытствуют».
«Определённо — она незаурядна. Но в ней, да, есть… от демивьерж».
Страшный приговор! Женщина, наверно, его заслужила. И мужчина, наверно, прав в своей всё-таки оскорблённой и оскорбляющей правоте.
Последним его словом в их эпистолярном романе, написанным его слабеющей рукой, будет «О, как мне скорбно!». Скорбно — точнее не скажешь: это и печаль-тоска, и болезнь-недуг, и горестно-горький привкус во всём. «Скорбнуть» у Владимира Даля — сохнуть, вянуть; «Хлеб в поле скорбнёт» — «заморен засухой, недозрел», полузрелый. Когда-то И.С. вставал на колени, услышав таинственные звуки зреющего хлебного поля. Но он же увидел во сне непригодный для вспашки ров. Последним его видением будет «его Оля» в белых лилиях над хлебным полем…
Для большого писателя его герои созданы им «из персти земной» живые, потому что омыты писательской кровью, и потому они живые. Вот только живых людей, а не созданных писательским воображением, опасно наделять чертами своих героев — «из персти земной» они воздвигнуты Богом. А это, как сказал один деятель, «посерьёзней, чем фантазия у Гёте».
Думала ли о себе Ольга Александровна что-нибудь подобное?
У неё иной ряд оправданий перед самой собой. Инстинкт самосохранения слабых подсказал их ей. А как редактор будущего романа она позаботилась о грозных надписях-запретах публиковать некоторые письма. Похоже, она позаботилась и об уничтожении части писем.
Что ж, наверно, искусство любви, как и искусство изящной словесности, требует не только искренности, но и самоконтроля. Женщине здесь помогает природная скрытность и инстинкт самосохранения, пусть даже детская поза смущения, замечательное свойство смущение, ныне почти утраченное — «кривить ножки».
Но в том-то и дело, что любовь такова, каков человек. Можно не сомневаться, Иван Сергеевич и Ольга Александровна дня не проживут без дум друг о друге и после его запоздалых открытий. Тайна человеческой души не поддаётся расшифровке.
И читателю, хотя он и добрался худо-бедно почти до конца повествования, хотя и узнал, как жесток приговор женщине, которой всегда есть что скрывать от мужчины и чем его озадачить, — читателю предстоит ещё вместе с И.С. встретить миг, за которым вечность. На земле остаются его книги — его Слово, даже если всего «для трёх праведников», которые спасут город от Божьего гнева.
А у О.А? «Жизнь не вышла», вот и «кривит ножки»?
Но здешняя страшная в своей мгновенности жизнь не выходит ни у кого, что становится так скорбно-ясно в смертный час. Для того и треплет жизнь, и изводит ошибками, заблуждениями и болезнями, чтобы смирились с неизбежно временным и ушли достойно в Вечное…