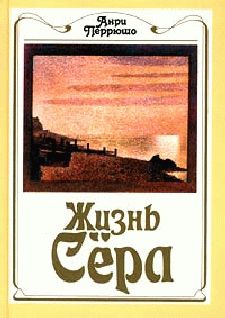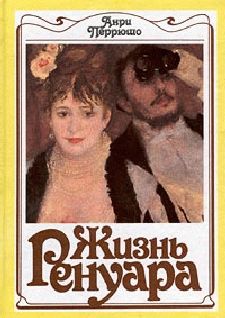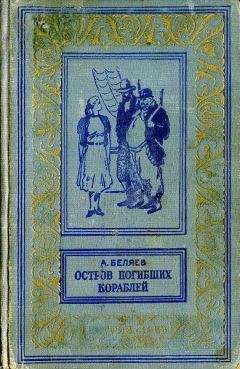Участие Сёра в выставке ограничилось двумя маринами из Кротуа и картиной "Мост и набережная", написанной в Пор-ан-Бессене. Писсарро посетил выставку вместе с Фенеоном и Анри де Ренье. Как и следовало ожидать, он не очень высоко оценил картины дивизионистов: по его словам, они "жалки, бледны, невзрачны, особенно Сёра и Синьяк". Разумеется, в этом повинна, на его взгляд, "однообразная и застывшая техника точки". Однако и Ф. Ф. не проявил большого восторга. Практическое приложение теорий Шарля Анри показалось ему в маринах Сёра слишком поверхностным.
"От этого страдает правдоподобие картин, - напишет он в своем отчете[133]. - Раковинообразные облака на полотне "Кротуа" малоубедительны. Хотелось бы, чтобы персонажи, гуляющие по набережной в "Пор-ан-Бессен", были более гибкими: если походка гуляющего ребенка очаровательна и подлинна, то размытые изображения таможенника и женщины с охапкой хвороста или фукуса остаются неубедительными".
В этой же статье Фенеон отметил, что Камиль Писсарро отвернулся от неоимпрессионизма и что Люсьен не отстал от своего отца в творческой эволюции - в "этих шатаниях", как написал Ф. Ф.
Сдержанное отношение Фенеона не очень-то смущало Сёра. У художника появилась теперь уверенность в том, что он достиг своей цели, что его система образует законченное и стройное целое и применима к любому сюжету. Различные предпосылки и следствия его эстетики и техники отныне сложились в строгую систему. При первом же удобном случае он, впрочем, сделает их достоянием гласности, чтобы раз и навсегда закрепить свое на них право.
А пока он озабочен другим - вопросами материального порядка: надо подыскать квартиру. К этому его побуждают предстоящие вскоре роды Мадлен.
Подходящее жилье удается найти возле площади Пигаль, в том переулке Элизе-де-Боз-Ар, где за два года до этого Антуан дал первое представление "Свободного театра"[134]. Сёра будет жить в доме номер 39, совсем рядом с этим залом, имеющим номер 37.
Дом, в который он переезжает, представляет собой старое строение, лишенное особой привлекательности. Но подобным вещам он придает гораздо меньше значения, чем раньше. Определенная склонность к эстетству Синьяка, который, например, снабжал свои книги переплетами, гармонично сочетающимися с текстом - так, он выбрал серебристо-голубой цвет для Леонардо да Винчи, золотисто-белый пергамент для Рембо и Малларме, фиолетовый цвет для Бодлера, синий и оранжевый для Кана, пурпурный и черный для Толстого, холодно-розовый для Поля Адана, - должно быть, весьма удивляла Жоржа Сёра. Для него жилье это прежде всего место, где стоит его мольберт. Воскрешала ли эта узенькая улочка в его памяти воспоминания, связанные с недавней историей живописи? Поднимаясь к коллегам Монмартра, за оградой дома под номером 14 он мог увидеть сад Пертюизе, охотника на львов, портрет которого в полный рост Мане нарисовал в 1880 году на фоне этого сада[135].
Обустраиваясь в новой мастерской, он узнает об отъезде одного из своих лучших друзей - Дюбуа-Пилье. Теперь "нео" уже не смогут рассчитывать на его дружбу, советы, предупредительность. Арсен Александр замолвил за него словечко в военном министерстве. Но положение Дюбуа-Пилье в республиканской гвардии оставалось нелегким. Полковник продолжал изводить его, упрекая в том, что, занимаясь живописью, он компрометирует корпус, в котором служит. Короче говоря, чтобы покончить с такой ситуацией, начальству пришлось прибегнуть к классическому способу продвижения по службе; желая удалить Дюбуа-Пилье из Парижа, ему присвоили чин командира эскадрона и назначили командовать жандармской ротой в Верхнюю Луару. В конце ноября художник-офицер покинул Париж и отправился в Ле-Пюи.
Сёра снова погружается в работу, если только можно считать, что он ее прерывал. На следующей выставке независимых - благодаря деятельному участию Вальтона она состоится весной 1890 года - он намерен показать полотно, в котором разрабатывает новую для него тему движения. И какого движения! Самого что ни на есть стремительного, передаваемого в неистовости тех кадрилей и канканов, ради которых на Монмартр стекаются толпы жуиров.
После открытия в начале октября "Мулен Руж" за кадрилями утвердилась ослепительная и громкая слава. Звезды "Мулен" - Ла Гулю, Валентин Бескостный, Грий д'Эгу - были настоящими знаменитостями[136]. И хотя "модернизм" подобной танцевальной сцены не безразличен Сёра, он прежде всего видел в этом сюжете возможность продемонстрировать, что его метод способен передать движение ничуть не хуже, чем состояние покоя.
Сёра не посещал "Мулен Руж". Его почти не интересовали звезды кадрилей. В расположенном поблизости от его дома Монмартрском кабачке "Концерт Старого света" каждую неделю выступали танцовщицы и танцоры из "Элизе-Монмартр". Атмосфера в этом низкопробном кабаре, плохо освещенном, сыроватом, с тошнотворными запахами, была скорее зловещей. Но здесь Сёра нашел то, что искал. Две танцовщицы: Коксинель и Ла Узард - и два танцора: Л'Артийёр и Блондине - послужат ему в качестве моделей.
Художник с увлечением берется за композицию "Канкан". Полотну предшествовали два крокетона и этюд довольно большого размера[137]. Сёра не только не замедляет темпа работы, но, напротив, кажется, наращивает его. Творческий подъем художника никогда не спадал.
Чтобы запечатлеть движение, он разрабатывает необычайно сложный "механизм", вписывая изогнутые и прямые линии в композицию, где благодаря безупречной геометрии для каждого, даже самого незначительного, элемента определено его место. На первом плане, ниже сцены кафе-концерта, находятся музыканты и один зритель. В глубине на сцене четыре танцора, - с высоко поднятой правой ногой.
Однако усилия Сёра направлены не только на то, чтобы передать движение. Он хочет - и это тоже новшество - выразить атмосферу веселья, но веселья деланного, как и положено для такого мотива. Ощущения подобного веселья, столь чуждого его натуре, художник достигает посредством выбора линий и цветов. Но к этому добавляется и определенная доля юмора. Стилизация, к которой стремится художник и которая позволяет ему безошибочно создавать декоративные эффекты, также усиливает карикатурность изображаемого. Сёра не лишен чувства юмора, хотя он редко извлекал из этого пользу. Разве не проникнут юмором его "Гранд-Жатт" (достаточно вспомнить обезьянку с длинным хвостом, которую держит на поводке женщина, или трубача)? Теперь же, позволяя себе большую свободу, он создает иронически окрашенный образ зрителя с профилем жирного поросенка на первом плане, подчеркивает слащавое личико первой танцовщицы, щегольскую позу танцора, который выгибается за ее спиной, усиливает нелепость женских бантов или задравшихся в стремительном порыве танца фалд фрака.