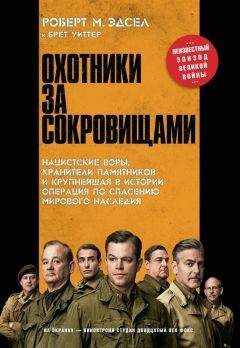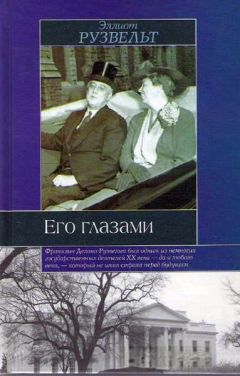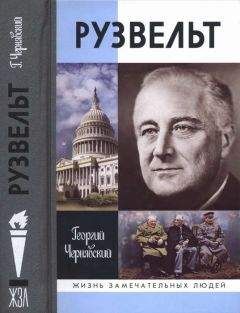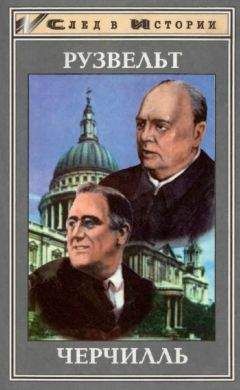– Бога ради, – сказал офицер, – скажите, чтобы выслали лампу. У нас тут даже свечки нет…
На следующий день в штабе Хэнкок прихватил не только лампы, но и полковника, который только что приехал из центра командования и мечтал увидеть войну своими глазами, а также вернувшегося с полей Джорджа Стаута. Американское присутствие в Западной Европе выросло до миллиона солдат, так что Эйзенхауэр распорядился создать административную единицу под командованием генерала Омара Брэдли: 12-ю группу армий США. В нее входили 1-я, 3-я, 9-я и только что прибывшая в Европу 15-я армии. Джорджа Стаута перевели в 12-ю группу в качестве хранителя. Иными словами, сбылся его самый страшный сон – его вытолкали наверх, в управленцы. Но Хэнкок заметил, что Стаут не особенно спешит в Париж, чтобы принять свой новый пост.
Джордж Стаут был настоящим профессионалом, работягой до мозга костей и единственным консерватором в окружении кураторов, художников и архитекторов. «Эксперт и педант сначала проводит анализ, – вспомнил Хэнкок совет, полученный от Стаута в один из их первых совместных выездов, – а уж затем принимает решение». Хэнкоку нравилось работать со Стаутом: тот всегда знал, что следует делать. Он принимал решения и нес за них ответственность. Что до полковника, то тот был волен идти куда хочет. У этого болтуна из тыла – такие выводят настоящих солдат из себя – было одно важное достоинство: согласившись взять его с собой, Хэнкок получил закрытый штабной автомобиль взамен опасного грузовичка. И чувствовал себя так, словно сидел за рулем лимузина.
– Приехали наконец, – сказал полковник. – Вовремя, черт возьми.
Командный пост не казался особенно надежным убежищем: шаткий, хлипкий деревянный домик. Хэнкок нажал на тормоз. Над головой гудели истребители союзников, воздух был плотным от дыма и пыли. Казалось, бои сегодня шли еще ближе, чем вчера. «Или просто стреляют больше», – подумал Хэнкок, когда громыхнули зенитки. Он слышал взрывы, но не мог понять, приближаются они или отдаляются. В любом случае здесь не место для картины – как и для хранителей памятников. Его план был прост: хватать картину и уносить ноги.
Но Стаут был настроен иначе.
– Записывайте, – велел он Хэнкоку, опускаясь на колени перед картиной, а затем нежно провел пальцами по ее поверхности.
– «Сельская ярмарка». – убежденно сказал он, – Фландрия, XVI век, школа Питера Брейгеля Старшего.
«Я так и знал», – подумал Хэнкок. Слово «школа» означало, что мастер, если и не писал сам, то хотя бы подсказывал художнику.
Стаут перевернул картину:
– Основа: дубовая панель. – Он достал свою измерительную линейку. – 84 см… на 1,2 м… на 4 мм. Три части одинаковой ширины, объединены горизонтально.
Взрывная волна сотрясла потолочные балки, сверху посыпались пыль и штукатурка. В окно Хэнкок мог видеть полковника, стоявшего на куче обломков и наблюдавшего за ходом сражения в бинокль.
– Рама: низкая, семь продольных брусов, дуб, десять скользящих поперечных, сосна. Множественные деформации. Слегка подточена червями. Когда картину помещали в раму, с нижних углов соскоблили краску.
Стаут снова повернул раму и продолжил изучать картину. «Сначала анализ, – подумал Хэнкок, – затем выводы». Стаут никогда не торопился, не действовал наугад и не руководствовался страхом или невежеством, даже под обстрелом.
– Грунт: белый, очень тонкий. Местами потрескавшийся, расслоившийся, непрочный. Вспученность: умеренная снизу, сильная сверху.
Тут Хэнкок заметил солдат, выходящих из сумрака. Это были простые пехотинцы, мальчишки, сразу из школы загремевшие на фронт. Все эти месяцы в них стреляли, закладывали против них мины, атаковали, закидывали бомбами. Они умывались из собственных шлемов, если вообще умывались, и ели из консервных банок, вытирая ложки о штаны. Их казармы были разрушены, так что они просто падали там, где могли, и засыпали. Как всегда, Хэнкоку захотелось им что-то сказать, как-то поблагодарить их за все, но тут снова заговорил Стаут.
– Краска: насыщенное масло, слой тонкий, в темных местах превращается в полупрозрачную пленку, под которой слабо виднеется монохромный рисунок.
Снаружи ликовал полковник, радуясь своей первой встрече с войной. А в доме два хранителя памятников в слабом свете новоприбывшей лампы изучали четырехсотлетнюю картину. Один стоял на коленях на земле, осматривая полотно очень внимательно, как археолог – египетскую гробницу или доктор – раненого. Другой скрючился позади, сосредоточившись на своих записях. А вокруг них, усталые и грязные, толпились солдаты, глядя на выразительные лица крестьян на картине и на двух взрослых мужчин в мундирах, осматривающих каждый ее миллиметр.
Письмо Джорджа Стаута коллеге Лэнгдону Уорнеру 4 октября 1944
Дорогой Лэнгдон!
Об отставке директоров [из Художественного музея Фогга] я узнал не от них – по правде говоря, мне они как раз ничего об этом не сообщили. Мне написала Марджи. <…> Наверное, мне надо написать им, но должен признаться, что никак не пойму, что именно писать. В «Деловом и общественном этикете» Холла с книжной полки моего отца, моем верном помощнике как раз для таких случаев, не было образца письма, адресованного директорам музея, в котором работает пишущий, косвенно узнавший об их отставке. <…>
Но Кёлер, конечно, прав. Работа должна достаться человеку, готовому превратить музей в работающую единицу – цельную и функциональную часть всего департамента. Сегодня я более чем когда-либо убежден, что понимание и развитие искусства является одной из основных потребностей человеческой души и что нам не видать здоровых социальных институтов до тех пор, пока эта потребность не будет утолена наравне с остальными. Я надеюсь провести остаток своей жизни, работая в этом направлении.
С моей точки зрения, это [охрана памятников] – тоже неплохое занятие. Последние три недели я работал в паре с англичанином, который под конец сделался страшно раздражительным и все твердил, что мы зря тратим свое время. Не знаю, чего он ждал: необыкновенного романтического приключения, личной славы или великой власти. Он не убедил меня. Пусть мы не можем оценить результат нашей деятельности, я уже доволен: не тем, чего мы достигли, а тем, за что боремся. Еще одно приносит мне глубочайшее удовлетворение – хоть это не попадет ни в какие протоколы и отчеты, – то, как к нашей задаче относятся люди, с которыми сводит меня война. Их не особо заботят разрушения и повреждения, но они понимают, что сохранить произведения искусства – важно, и желают больше узнать об этом. Как простые солдаты, так и офицеры – все до единого. Вчера, например, сержант, которого я знаю уже давным-давно и который двух слов не способен связать для публикации в армейском «Мониторе», расспрашивал меня, много ли памятников было повреждено вокруг. И я вспоминаю одного грубого старого полковника, с которым мне пришлось поспорить еще во Франции. Я сказал ему, как называется мой отдел. Его глаза полезли на лоб, который как будто обработали одним из этих молотков для отбивных: «Это еще что за чертовщина?» Ну я и рассказал немного о том, чем занимаюсь. Было время обеда. Я ел паек на багажнике своей развалюхи, а он болтался кругом со своим помощником, и они приставали ко мне с вопросами, пока я не сбежал оттуда. Все эти ребята просто проявляют естественный интерес к хорошей работе, и ничего их в нем не сдерживает. Возможно, и пусть саибы Фогга простят меня за эту мысль, это простое любопытство здорового человека куда ценнее, чем некоторые памятники.