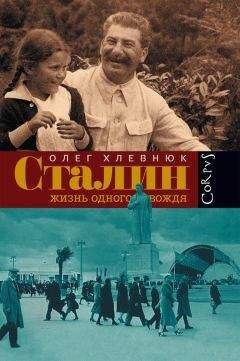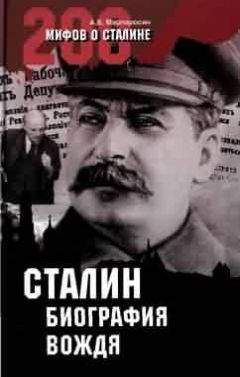Для большей полноты понимания характера и вкусов Сталина нужно упомянуть о его склонности к грубым выражениям и шуткам. На застольях на сталинской даче распевали непристойные частушки[280]. Как упоминалось выше, по свидетельству дочери, Сталин «очень любил повторять кому угодно непристойный текст» так называемого письма запорожцев турецкому султану[281]. За несколько дней до начала войны, очевидно находясь в раздраженном и угнетенном состоянии, Сталин посоветовал наркому государственной безопасности В. Н. Меркулову послать его агента из штаба германской авиации к «еб-ной матери»[282]. Министр госбезопасности С. Д. Игнатьев жаловался, что Сталин ругал его «площадной бранью»[283]. Временами высшие советские руководители развлекались тем, что рисовали друг на друга шаржи и карикатуры, в том числе неприличные. На одном из таких рисунков, изображавшем наркома финансов Н. П. Брюханова подвешенным за гениталии, Сталин сделал надпись: «Членам П. Б. За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова за яйца; если яйца выдержат, считать его оправданным по суду, если не выдержат, утопить его в реке»[284]. Очевидно, что Сталин считал это смешным и остроумным.
Грубость и непристойности были не просто игрой – они составляли суть натуры вождя. Можно предположить, что конечный результат его духовного образования, самообразования, политического опыта и характера представлял собой малопривлекательную, но чрезвычайно полезную для удержания власти смесь. Сталинское упрощение действительности, сведение ее к противостоянию классов, капитализма и социализма пережило самого Сталина и его систему. Где бы ни крылись истоки таких упрощений – в духовном ли образовании Сталина, в приверженности ли его ленинской версии марксизма, – очевидно, что классовая одномерность облегчала жизнь Сталина-диктатора. Мир, основанный на принципах классовой борьбы, позволял игнорировать реальность и презирать любые жертвы; объявлять тягчайшие преступления режима следствием исторических закономерностей, а чужие ошибки – преступлениями; приписывать преступные намерения или действия тем, кто их никогда не имел и не совершал. Упрощения служили отличным орудием социальных манипуляций в относительно малокультурной стране.
Созданная Сталиным умозрительная конструкция мира была на самом деле достаточно хрупкой и ненадежной. Слишком простая и неэффективная, она не выдерживала испытания практикой, порождала многочисленные противоречия и провалы. Однако благотворные для страны корректировки идеологической системы воспринимались Сталиным (нужно сказать, не без оснований) как угроза режиму. Поэтому ответом Сталина на требования жизни был жесткий идеологический и политический догматизм. Как неоднократно показано в этой книге, на ограниченные перемены Сталин соглашался лишь в условиях крайнего обострения кризиса. Отгораживаясь от действительности, Сталин уходил и старался увести за собой других в дебри идеологической схоластики. В личном архиве Сталина, который в значительной мере формировал он сам, почти отсутствует такой вид документов, как экспертные оценки. Зато огромная страна изучала труды Сталина о языкознании и политической экономии[285], громила «формалистов» и «космополитов». Опасаясь перемен и тлетворного влияния Запада, Сталин отвергал достижения современной науки, например генетики[286]. Он верил лишь в то, что мог «потрогать руками», что понимал и считал политически безопасным.
Сталинский догматизм и отторжение сложного в конечном счете являлись существенным препятствием для развития страны. Однако и на склоне жизни у Сталина не появилось намерений менять ту систему политического устройства, которая привела его к власти, – систему, начало которой положила его революция.
Окончательное уничтожение «левой оппозиции» в 1927 г. и в течение последующего 1928 г. переросло в победу Сталина. Верхушка Политбюро, ранее скрепленная борьбой с Троцким и Зиновьевым, начала распадаться. Нараставший социально-экономический кризис сопровождался кризисом высшей власти. Эта горючая смесь окончательно взорвала революционную большевистскую систему. Катализатором взрыва служил провал государственных заготовок хлеба из урожая 1927 г., сигнализировавший об очередном кризисе нэпа. Нэповская модель развития оказалась уязвимой по целому ряду причин. Рыночные взаимоотношения государства с крестьянством изначально противоречили доктринальным установкам большевиков. Несмотря на печальный опыт «военного коммунизма», правящая партия продолжала проповедовать радикальный социализм и преследовала частную экономическую инициативу. С другой стороны, советское сельское хозяйство оставалось очень слабым. Оно не могло немедленно дать тех ресурсов на проведение индустриализации, которые хотело получить государство. Все течения в руководстве партии: и «правые», и «левые», и колебавшееся между ними «болото» осознавали необходимость корректировки нэпа и наращивания индустриализации. Проблема заключалась в поисках (как правило, методом проб и ошибок) оптимальных методов такой корректировки. Однако поле для поисков существенно ограничивалось из-за острейшей борьбы за власть. Политическое противостояние, необходимость соответствовать догмам, как всегда, губили экономику. Лидеры, претендующие на единоличную власть, использовали кризисы как удобный момент для ее захвата, принося в жертву консолидацию и экономическую рациональность. В конце 1920-х годов таким лидером был Сталин. Причины кризиса конца 1927 г. были традиционными и понятными для руководства страны. Ошибки ценовой политики, увеличение вложений в индустрию и другие факторы подрывали общий экономический баланс и заинтересованность крестьян продавать хлеб государству. В предыдущие годы вполне успешно вырабатывались и рецепты преодоления подобных кризисов. В 1928 г. такой рецепт предстояло найти вновь. Первоначально Политбюро занималось этим сообща и единодушно. Не отвергая экономические стимулы, на этот раз решили опробовать усиление административного нажима на крестьян. В рамках кампании силового изъятия хлеба высших руководителей страны начали отправлять в командировки в основные зернопроизводящие районы. Своим присутствием и угрозами они подталкивали активность местных чиновников. Молотов, отправленный на Украину, сообщал Сталину в первый день нового 1928 г.:
Дорогой Коба! Сижу на Украйне 4-ый день – люди говорят, небесполезно. Раскачал ленивых хохлов […] Добился, что «главки» и «центры» Украйны разъехались по местам с обещанием усердно поработать. Теперь вот сижу в Мелитополе (золотое дно!) и тут также устроил погром с обычными хлебозаготовительными ругательствами […] Много впечатлений новых, очень рад, что прикоснулся к земле. Об этом расскажу по приезде. Привет всем[287].