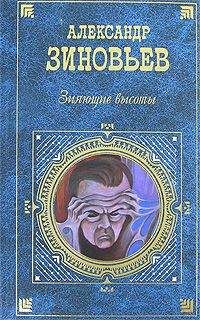колонна училища будет проходить ближе к Мавзолею. На Бориса мы возложили обязанность разбрасывать листовки и потом объяснять наши мотивы на суде, если таковой будет. Мы же с Алексеем решили пробиваться к Мавзолею, стрелять в Сталина и других и бросать гранаты. Живыми решили не сдаваться. Покушение запланировали на 7 ноября 1939 года. Но в связи с трудностями с оружием перенесли на 1 мая 1940 года.
Прошло почти пятьдесят лет с тех пор. Вспоминая сейчас наш заговор, я спрашиваю себя, осуществили бы мы его или нет, если не случилось бы событие, о котором я расскажу дальше. Сейчас у меня возникло сомнение насчет положительного ответа. В наших настроениях не хватало все-таки той решимости, какая была у народовольцев. Мы подражали им, но мы все-таки чувствовали разницу в нашем положении. Народовольцы появились тогда, когда Россия уже покатилась в направлении революции, а мы появились уже после революции, которую готовили они. Они имели моральную поддержку мыслящего русского общества. Мы за собой не чувствовали никакой опоры. И все-таки я допускаю возможность попытки осуществления нашего замысла. Мы пошли бы на это хотя бы потому, чтобы не выглядеть в глазах друг друга трусами и предателями. Из нашей попытки наверняка получилось бы что-нибудь очень примитивное и уродливое. Ее пресекли бы в самом начале, а нас просто уничтожили бы без всяких сенсаций. Это было бы самоубийство безумцев.
Первая провокация
В начале октября было открытое партийно-комсомольское собрание курса. Почему-то речь зашла о положении в колхозах. Студенты из моей группы знали, что моя мать колхозница и что я сам каждое лето работал в колхозе. Они знали кое-что и о моих умонастроениях: утаить их было невозможно. Они спровоцировали меня на выступление. В конце собрания, когда председатель уже собрался объявить его закрытым, староста нашей группы выкрикнул, что я якобы хотел бы выступить. Мне дали слово, которое я сам не просил. Не понимаю, почему я не отказался, я вообще не любил выступать на собраниях. Я поднялся на трибуну и стал рассказывать о том, что происходило в нашем колхозе имени Буденного и в соседних колхозах района. Говорил о бесхозяйственности, о том, что мужики пьянствуют, воруют и арестовываются, что на трудодни почти ничего не дают, что люди бегут из деревень при всякой возможности, что оставшиеся живут впроголодь… Мое выступление было выслушано в мертвой, гнетущей тишине. Эта тишина продолжалась еще некоторое время после того, как я покинул трибуну. Я сел в самом заднем ряду. На меня никто не смотрел. А я почувствовал облегчение. В этот момент я забыл о великом замысле убить Сталина. Этот замысел был проблематичен, а тут был вполне реальный бунт. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Мне подбросили в руки синицу, я схватил ее, забыв про журавля. Я потом много думал на эту тему, но так и не нашел ни оправдания своему поступку, ни порицания. Но я тогда понимал, что сделал решающий шаг в своей жизни, определивший всю мою последующую судьбу. Пусть я сделал этот шаг вопреки своему желанию. Пусть меня спровоцировали на него. Но я все-таки сделал его. Я его сделал так же, как когда-то мальчишкой нырял на «слабо» в воду, еще не освободившуюся ото льда. Только теперь я нырнул во враждебный мне океан без малейшей надежды вынырнуть из него живым. Но я все-таки нырнул. Я поступил так, как это соответствовало моей уже сложившейся личности. Я был горд, что пошел против общего течения. Для меня это мое коротенькое выступление психологически означало восстание космического масштаба. Это было восстание против всего и против всех. Я чувствовал себя как мой любимый литературный герой – лермонтовский Демон, восставший против всего Мироздания и против самого Бога. Если бы меня в тот момент приговорили к смертной казни, я принял бы ее как высшую награду. Это был иррациональный и неподконтрольный поступок, непроизвольный срыв. Но, произойдя, он сделал рациональным, произвольным и контролируемым все мое последующее духовное развитие.
Что начало твориться в зале через несколько секунд, об этом я и сейчас не могу вспомнить без содрогания. Начался буквально рев гнева и возмущения. Председатель с трудом навел порядок.
Произошло чрезвычайное происшествие, и коллектив должен был прореагировать на него должным образом. Собрание затянулось чуть ли не до полуночи. Мое выступление заклеймили как «вражескую вылазку». Были приняты какие-то резолюции. Не дожидаясь конца, я потихоньку ушел. Домой шел пешком. Шел дождь со снегом. Дул ледяной ветер. Я промок. Но мне не было холодно. Я шел как в бреду. Мыслей почти не было. Было одно растянутое во времени, окаменевшее или оледеневшее подсознание какой-то огромной и непоправимой катастрофы. Лишь настойчивый внутренний голос твердил и твердил одно слово: «Иди!»
Андрей в эти дни почему-то на занятия не ходил. Кажется, он болел. Если бы он присутствовал на собрании, он наверняка удержал бы меня от выступления. Не знаю, стоит сожалеть о том, что его не было, или нет. Не исключено, что, воздержавшись от срыва, я благополучно окончил бы факультет, втянулся бы в учебу и научную работу, рано защитил бы диссертации и стал бы благополучным и преуспевающим профессором вроде Копнина, Горского и Нарского. Но думаю все-таки, что такой вариант жизни для меня был маловероятен. Если бы я не сорвался в этот раз, то сорвался бы в другой. В моей судьбе я с детства подозревал и чувствовал некую предопределенность.
Следствия срыва
На другой день после злополучного собрания я не пошел на занятия. За мной прислали курьера с вызовом в ректорат института. В институт я пошел пешком. Ректор Карпова поговорила со мной минут пять. После этого мне дали направление в психиатрическую больницу. Больница носила почему-то имя Кагановича. Находилась она, если мне не изменяет память, в одном из переулков в районе улицы Кирова. Уже после войны я пытался найти ее, но не нашел. Не исключено, что ее перевели куда-то в другое место, а в здании разместили школу или, скорее всего, Институт международного рабочего движения (ИМРД). В письме, которое мне дали в моем институте, была написана просьба ректора Карповой обследовать меня, так как, по ее мнению, со мной было «что-то не в порядке». Об этом мне сказал врач. В больнице меня осмотрели в течение получаса. Написали заключение. Врач, осмотревший меня и подписавший заключение, показал мне его. В нем было написано, что я психически здоров, но очень сильно истощен и нуждаюсь в годичном освобождении от учебы. Затем