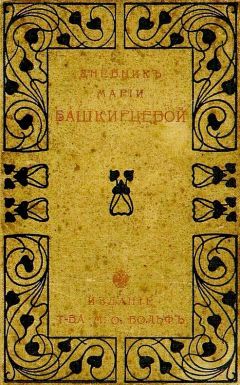«Пари-Миди» поместила восхитительную статью Жана Кокто, которую я привожу здесь, потому что она передает меня так точно, как ни один портрет, и представляется мне шедевром жанра отчета, который мало кто мог сделать так блестяще:
«Нужно воздать хвалу пылким и глубоким женщинам, живущим в тени мужчин. Женщинам, от которых исходят драгоценные волны, побуждающие к таинству творчества. Невозможно вообразить золотые потолки Хосе-Мариа Серта, солнечные миры Ренуара, Боннара, Вюйара, Русселя, Дебюсси, Равеля, пророческие прожектора Лотрека, кристаллы Малларме, игру лучей заходящего солнца у Верлена и сияющий восход Стравинского без того, чтобы не возник образ молодой тигрицы, в лентах и бантах, с нежным и жестоким личиком кошечки, Мизии Серт. Мизии, какой мы видим ее с эгреткой Шехеразады, восседающей в центре королевской ложи «Русского балета» и наполняющей своими флюидами театральные декорации и неистовые танцы, как когда-то наполняла залитые солнцем сады импрессионистов. Да, это в меховом или шелковом манто, в которое Поль Пуаре или Поль Ириб одели свою султаншу, крестную воздушной труппы Сержа Дягилева, мы узнали нашего друга. На ее веере знаменитое четверостишие Малларме. Я уверен, что из всех ее брачных контрактов и видов на жительство это бесспорно единственное удостоверение личности, спасенное этой полькой от восхитительного беспорядка, в котором погибли сокровища, мадригалы П.-Ж. Туле[281] и Поля Верлена.
После коротких привалов в квартирах, которые она сама отделывала и покидала, как птичка насест, мадам Серт живет на последнем этаже отеля «Мёрис». Когда я стал ее другом, она только что переехала из отеля в квартиру, похожую на фонарь, на набережной Вольтера. Гостиная была освещена на севере зелеными водами Сены, на юге — оранжевыми панно Боннара. Эти панно Мизиа разрезала на свой лад, чтобы они точно соответствовали стенам. Кричите: скандал! У нас есть догарессы и великие жрицы. У нас есть музы, мы имеем их в изобилии. Но как редки и необходимы для искусства, рискующего отрастить брюшко, женщины, настоящие женщины, которые приносят с собой в храм беспорядок со всеми своими платьями, ножницами и проч. «Ангелы летают, — пишет Честертон[282], — потому что безмятежны и не воспринимают себя всерьез». Мизиа своей любовью, лишенной почтения, беспрерывно месит тесто, не давая ему «затвердеть». Только большие художники, боящиеся роли идолов, благословляют это иконоборчество, подстегивающее жизнь, не разрешающее движению остановиться.
Их искусство кажется вдохновленным «Бедами Софи». Я слышал, как одному художнику, который жаловался на «беду», причиненную ему Мизией, Сати ответил: «Это наша вина, кошечка прекрасна, мой дорогой, прячьте ваших рыбок!»
Перед нами одна из тех женщин, в которых Стендаль находил гений. Гений ходить, смеяться, ставить на место, играть веером, садиться в экипаж, изобрести диадему. Этим гением Мизиа обладает в такой степени, что, когда я писал «Самозванца Тома», хотя вначале думал о Сансеверине[283], она непроизвольно для меня стала прообразом княгини де Борм.
Но когда я восхищался очарованием ложи в «Опера», куда наша кудесница завлекала Ренуара и Пруста — одного из деревни, другого из постели больного, — я не знал, что этот гений, туманный, воздушный, который выражается то в дерзости, то в сооружении китайских деревьев с ветвями из перьев и жемчужин, я не знал, повторяю, что этот гений способен расширить свои границы до настоящей гениальности, что наш гений жизни — попросту гениальная пианистка. Так как не только жизнь и нас, своих друзей, сумела она атаковать своим твердым кулачком, но и «Плейель»[284], из которого эта кошачья лапка извлекла прелюдии и мазурки Шопена, с их жемчужинами, тихими, бурными и веселыми, свойственными ее расе. Она околдовала нас в полном смысле слова, как это мог сделать только Андре Жид[285], когда иногда удавалось услышать из соседней комнаты его игру на пианино.
Едва сделав это открытие, я поделился им с Роланом Гарросом, большим любителем фортепианной музыки. С этой минуты мы добились, что она играла для нас с Гарросом между двумя его полетами.
Вчера вечером, сопровождаемая Марселль Мейер, мадам Серт согласилась появиться на эстраде.
У музыки плохая память, она забывает своих исполнителей, как вода графин, и каждый пианист накладывает на нее свой отпечаток. Советую тем, кто будет иметь счастье слушать Мизию, помимо удивления, которое они должны испытать, вспомнить бессмертные души тех, кого, как признается в своем восхитительном четверостишии Малларме, она вдохновляла и обогащала своим таинственным соучастием в их творчестве».
В последнее лето, когда я приехала в Венецию, надеясь застать там Руси, ее там не оказалось. Серт увез ее в круиз с несколькими друзьями. А я уже вызвала телеграммой отца Ржевского в Италию, надеясь, что он убедит Руси поехать в Швейцарию лечиться в клинике. Он немедленно откликнулся на мою просьбу, но Руси еще не вернулась. Когда Ржевский приехал, я была в состоянии, близком к депрессии. Он сделал все, что было в его силах, чтобы помочь мне, и посоветовал причаститься в прекрасной доминиканской церкви. Ему надо было вернуться в свой монастырь. Через день я получила записку от Руси, которая просила дождаться ее.
Она действительно вскоре приехала, похудевшая, с вытянувшимся лицом, изнуренная. Я просто заболела от мысли, что с каждым днем она все больше чахнет. Когда мы вернулись в Париж, Руси уже почти не могла выходить, у нее не было даже сил вести машину. Днем ее навещали друзья, а вечером, оставшись одна, она звонила мне: «Приходи скорее». Она и слышать не хотела о сиделке. Так как Руси непрерывно курила и в полусне прожигала простыни, я вечно боялась, что она может по-настоящему поджечь постель. Поэтому почти всю ночь стояла возле нее на коленях, рассказывая всякие истории. Руси становилась настоящим ребенком и не уставала слушать меня до рассвета. Тогда она засыпала, и я потихоньку на цыпочках уходила.
Серт, по своей натуре никогда не признававший болезни, не отдавал себе отчета в серьезности ее состояния. Для него жизнь оставалась прежней, и он спокойно спал.
Между тем Руси менялась на глазах. Необходимо было положить ее в клинику, но как сказать ей правду? Невозможно. Ее сестры здесь не было. Тогда моя самая близкая подруга[286] согласилась прибегнуть к такой уловке: она убедила Руси, что сама должна как можно скорее поехать лечиться в Швейцарию, но у нее не хватает храбрости сделать это одной. Не сможет ли Руси по-дружески пожертвовать собой и сопровождать ее? Она притворилась больной, и бедная маленькая Руси поверила, что действительно спасает ее. Она долго объясняла мне цель этой поездки, которую надо немедленно предпринять, сказав, что я смогу навещать ее в Пранжэне и что Серт завтра же присоединится к ним.