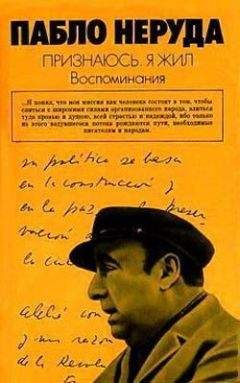Ангелина с трудом подавила вздох. Незачем было спрашивать, сколько уплатил Диего за персики, хорошо еще, если хватило денег, полученных у Розенберга. Разумеется, он не подумал, на что они будут жить до конца месяца, не вспомнил, что Ангелина ждет ребенка…
А Диего уже раскладывал персики по столу, устанавливал мольберт, лихорадочно перебирал тюбики красок, охваченный острым, неудержимым желанием воссоздать на холсте эти плоды во всей их чувственной прелести. Веселая ярость плясала в нем. Довольно с него умозрений, довольно всей этой паутины, которая столько времени опутывала его, не давая попросту радоваться жизни! Паутина разорвалась, наконец, и зримый, осязаемый, вещественный мир вновь наступал на Диего со всех сторон. Вот уже и орудия его ремесла начинали, как встарь, разговаривать с ним — ах, давно не испытывал он такого чисто физического наслаждения, проводя крошащимся углем по шероховатой поверхности холста, выдавливая на палитру густые краски!
И все же, как ни бурно возвращалась к Диего сила ощущений бытия, реализовать эту силу на полотне ему не удавалось. Напрасно старался он позабыть уроки кубизма, писать лишь то, что видит, бездумно подчиняясь природе, — он не мог подавить в себе работу мысли, упрямо стремящейся разъять на части любой предмет, обнажить его внутреннюю структуру. Невозможно было вернуться вспять. Но не оставаться же в теперешнем состоянии, разрываясь между чувством и мыслью, тянущими его в противоположные стороны! Так как же примирить оба эти начала? Как прорваться к той высшей, окончательной цельности, которой требовало все его существо?
В поисках решения он то хватался за кисть, то часами ревниво всматривался в картины современников, бросаясь от одного к другому, — только бы нащупать выход из тупика! Быть может, Ренуар ему что-то подскажет? Или Пикассо, который в последнее время тоже ведь явно тяготеет к предметности?
Опять чужие влияния стали отчетливо проступать в его натюрмортах, пейзажах, портретах. Коллеги-кубисты во всеуслышание поносили его за отступничество. Леон Розенберг выходил из себя: художник со сложившейся манерой, добившийся, что картины его начали пользоваться устойчивым спросом, и так безрассудно сворачивает с надежного пути, ударяется в эпигонство, подрывает свою репутацию ученической мазней! Возмущение торговца картинами имело отнюдь не бескорыстный характер — в разгар успехов кубизма он заключил с Риверой долгосрочный контракт и теперь не желал терять верный доход. В конце концов он будет вынужден принять меры! «Ну и черт с ним, — отмахивался Диего, — пусть разрывает контракт!»
Он работал до изнеможения, однако даже работа не могла полностью утолить неистовую жажду жизни, овладевшую им. Ангелина, усталая, подурневшая, по целым вечерам оставалась одна. Ему было с ней скучно, и он не находил нужным скрывать это. Словно выздоровевший после затяжной болезни, каждой клеткой тела ощущая животную радость существования, разгуливал он по улицам, искал развлечений, жадно заглядывался на женщин. Вот так однажды загляделся он на Моревну и вдруг обнаружил, что и та как будто впервые видит его…
Понимала ли Ангелина, что с ним творится? Во всяком случае, она ничем не стесняла его свободы. Не остепенился Диего и с рождением сына — маленький Диегито, которому суждено было прожить всего полтора года, не пробудил в нем отцовских чувств. Отношения его с Моревной развивались стремительно, и наступил день, когда Диего с непривычной жестокостью объявил Ангелине, что уходит. Не пытаясь его удерживать, вся помертвев, следила она за тем, как он мечется по мастерской, собирая вещи. Уже на пороге его догнал ломкий голос: «Все равно ты вернешься, Диего. Я буду ждать…»
Как скоро припомнил он эти слова! У Моревны оказался точь-в-точь такой же характер, как у него самого. По-детски эгоцентричная, капризная, своевольная, она не склонна была ничем поступаться ради Диего. С первых дней совместной жизни начались ссоры, не дававшие ему спокойно работать, и это, пожалуй, в наибольшей степени способствовало его отрезвлению. Через несколько месяцев, полный стыда и раскаяния, он возвратился к Ангелине.
Последняя военная зима была особенно суровой. Они жили впроголодь; вода в умывальном тазу к утру покрывалась корочкой льда. Кружок друзей распался. Волошин и Эренбург еще летом уехали на родину, а с Пикассо сам Диего перестал встречаться, обозленный втройне — на толки, которые приписывали все перемены в его творчестве исключительно влиянию испанца, на Пикассо, который не находил нужным опровергать эти толки, и на себя, за то, что дал к ним повод. Из Мексики приходили неутешительные вести: президент Карранса посылает войска против крестьян, подавляет рабочее движение. Что происходит в России, трудно было понять. Диего не хотел верить газетам, сообщавшим о голоде и разрухе, о том, что власть большевиков доживает последние дни, а иные сведения в печать не просачивались.
Картины его никто не покупал. Розенберг привел в исполнение свою угрозу, да и другие торговцы закрыли двери перед Диего. Критики Не замечали его работ и лишь изредка вспоминали о бывшем кубисте, скатившемся падучей звездой с парижского небосклона, о неудачнике, не сумевшем закрепить свой успех.
Изо дня в день, по-медвежьи переминаясь с ноги на ногу, согревая дыханием зябнущие пальцы, стоял Диего перед мольбертом. Его вера в себя крепла наперекор всему. Время вынужденного отступления, время ученичества, на которое он добровольно себя обрек, не прошло даром. Он чувствовал: что-то накапливается в нем. Самые разнородные влечения, раздиравшие его эти годы, — тяга к воплощению реального мира, и неумирающее стремление постигнуть сокровенную сущность вещей, и воля к действию, к непосредственному участию в жизни, и ненависть к прогнившей Европе, и тоска по родине, и жажда Общей идеи — переплетались, стягивались в один узел, сливались в единую силу. Движимый этой силой, шел он к своему решающему, еще невидимому рубежу.
В 1919 году в Париж приезжает Давид Альфаро Си-кейрос. Самый младший из зачинщиков студенческой забастовки в Сан-Карлосе стал к этому времени молодцеватым капитаном мексиканской армии; у него за плечами подпольная деятельность, сражения и походы, в которых он участвовал как солдат и как художник, — сотрудничал в революционных газетах, рисовал плакаты. Президент Карранса послал его в Европу вместе с другими художниками, проделавшими такой же путь, сохранив за ними офицерское содержание и обязав прослушать курс лекций в военных академиях.
Сеньор Карранса не прочь избавиться от беспокойных молодых людей, не скрывающих намерения продолжать борьбу за полное осуществление требований революции. Впрочем, и молодые люди не растроганы щедростью президента — предоставленную командировку они собираются использовать в собственных целях. За годы гражданской войны они породнились с бедняками, познакомились с жизнью индейских племен, по-настоящему узнали Мексику. Так что же теперь — опять разбрестись по своим мастерским, заниматься пленерной живописью, угождать меценатам?.. Ну нет! Они хотят и дальше служить родине, хотят построить такое искусство, которое будет подымать на борьбу народные массы.