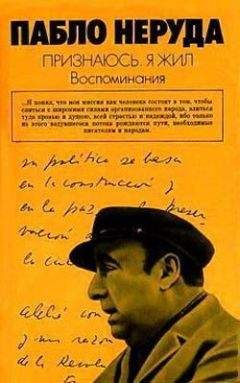Новые идеи захватили Диего. Воображение его уже рисовало желтые, черные, медно-красные полчища, идущие, чтобы перевернуть мир и выстроить его заново. Так вот что пророчило искусство последних десятилетий! Почуяв, откуда хлынет великий потоп, лучшие художники — от импрессионистов, на которых оказали влияние японские мастера, до Пикассо, нашедшего себя благодаря примитивной негритянской скульптуре, — инстинктивно потянулись навстречу грядущему, принялись переносить в свою живопись пластические приемы искусства народов Азии, Африки… Теперь и кубизм обнаруживал в глазах Диего свое подлинное назначение: не бежать, подобно Гогену, от буржуазной цивилизации, а взрывать ее изнутри, опрокидывая устои ненавистного, косного мировосприятия и расчищая почву для будущего. И собственная работа Диего, казалось, обретала цель.
И все же: для кого Писал он? Полотна, в которые он вкладывал всего себя, смогут ли они что-то сказать неискушенным массам или, выполнив свою разрушительную роль, они останутся ржавыми гильзами на полях сражений?
В разговорах с друзьями Диего не позволял себе никаких сомнений на этот счет. Он запальчиво уверял, что если крестьяне из армии Сапаты увидят его картины, то уж наверно поймут их лучше, чем пресыщенные парижские снобы, — ведь искусство индейской Америки тоже никогда не копировало действительность, а стремилось выразить ее суть и умело — за много веков до кубистов! — видеть ее изначальные, первичные элементы. Но, оставаясь наедине с загрунтованным холстом, он начинал колебаться, искать иные, более общедоступные решения.
Результатом этих исканий явилась картина, которую Диего назвал замысловато: «Партизан, или Сапатистский пейзаж с натюрмортом». На фоне голубого неба, серых гор, темно-зеленой растительности и густо-синего моря он изобразил предметы из обихода мексиканского повстанца: ружье, сомбреро, деревянный сундучок и полосатую радужную накидку-сарапе. Вся композиция была явно рассчитана не на пассивное восприятие, а на то, чтобы вызвать в сознании зрителя целый круг понятий, связанных с изображенными вещами.
Ортодоксальные кубисты увидели в «Сапатистском натюрморте» измену принципам, сам же Диего не был убежден в правильности такого решения — половинчатого, что ни говори. Поколебавшись, он вернулся к прежней манере, написал серию портретов — Ангелину, Гусмана, Волошина, Рамона Гомеса де ла Серну, приехавшего в Париж… Между тем время шло; ему исполнилось уже тридцать лет.
В начале 1917 года Учредительное собрание Мексики приняло новую конституцию, провозгласившую революционные преобразования. Единственным собственником земель и вод объявлялась нация; земли, отнятые у индейских общин, подлежали возврату; рабочим и батракам гарантировался восьмичасовой рабочий день, за ними признавалось право на организацию профессиональных союзов; существенно ограничивались права иностранных монополий и власть церкви.
В феврале Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Германией, вступление их в войну стало делом ближайших недель. А с начала марта газеты запестрели сообщениями из России: в Петрограде демонстрации, забастовки, царь отрекся от престола. Последняя весть породила было надежды на мир, однако вскоре они иссякли — гигантская мясорубка крутилась по-прежнему, и войне не было видно конца.
Но как-то майским вечером, сидя в «Ротонде» в компании, где было несколько русских эмигрантов, ожидавших разрешения вернуться на родину, Диего впервые услышал слова, поразившие его своей неожиданностью; да, война принесла человечеству неисчислимые бедствия, но зато она же и создала условия для окончательного освобождения человечества от гнета эксплуататоров. Приведя современное общество на край пропасти, она поставила его перед выбором: либо гибель, либо установление социализма, который один способен дать народам мир, хлеб и свободу. Третьего не дано. Единственным выходом из положения является немедленное превращение войны империалистической в войну гражданскую — такую, в которой рабочий класс поведет за собою остальные массы трудящихся к победе социалистической революции.
Говоривший — один из русских, Диего не запомнил его фамилии — был человек лет сорока, с аккуратно подстриженной бородкой, в пенсне, в старомодном костюме, выделявшемся на фоне причудливого тряпья, в котором щеголяли завсегдатаи «Ротонды». Как выяснилось из разгоревшегося спора, идеи, которые он защищал, принадлежали Ленину — вождю русских большевиков, борющихся за то, чтобы вся власть в России перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.
Отвечая на возражения, сыпавшиеся со всех сторон, человек в пенсне разъяснял:
— Захватив власть, русский пролетариат докажет, что путь к справедливому миру лежит только через рабочую революцию против капиталистов всех стран. Штабом этой революции будет обновленный Интернационал, под знамя которого встанут и массы беднейшего крестьянства, встанут также не сегодня, так завтра и угнетенные народы колоний, зависимых государств… Никогда еще интересы пролетариата не совпадали так полно с интересами всего трудового человечества!
— Послушать вас, большевиков, — сердито перебил кто-то, — так можно подумать, что вы держите в руках тот самый рычаг, которым Архимед собирался перевернуть планету!
Большевик усмехнулся. У Диего бешено заколотилось сердце. Ему вдруг снова привиделись миллионные полчища, идущие на последний штурм. Но теперь это были уже не стихийные орды, а железные армии, грозные своей организованностью, и вели их опытные стратеги, безошибочно выбравшие время и место для нанесения решительного удара.
Всю жизнь он будет гордиться тем, что еще за полгода до Великой Октябрьской революции решительно сказал себе: да, вот он, архимедов рычаг!
Ангелина-а! Распахнув дверь ударом ноги, Диего внес в мастерскую и бережно опустил на пол увесистую корзину, доверху наполненную крупными спелыми персиками.
— Хороши? — торжествующе выдохнул он, не сводя восхищенного взгляда с корзины. — Понимаешь, выхожу из галереи Леона Розенберга и тут же натыкаюсь на тележку с фруктами… Нет, не могу тебе передать, что я вдруг почувствовал, увидав эти персики! Как будто все разом — фактура, форма, цвет — ворвалось в меня… Черт возьми, теперь я, кажется, знаю, что делать!
Ангелина с трудом подавила вздох. Незачем было спрашивать, сколько уплатил Диего за персики, хорошо еще, если хватило денег, полученных у Розенберга. Разумеется, он не подумал, на что они будут жить до конца месяца, не вспомнил, что Ангелина ждет ребенка…