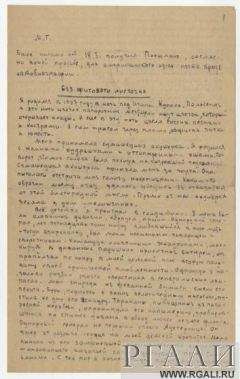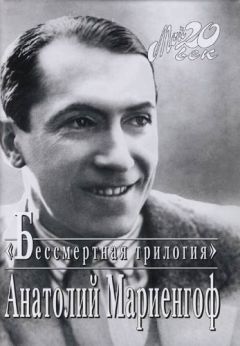Вот и окна громановской квартиры.
Тонечка томно шепчет:
– Милый!..
– Милая!..
Моя первая пензенская любовь не изобиловала длинными разговорами.
– Толя, побежим целоваться перед окнами нашей гим назии!
Эта мысль приводит меня в восторг:
– Есть, Тонечка!
И снова бежим, взявшись за руки.
– Стоп!
Тонечка уже закрыла глаза.
До войны «абитурьенты», как называли тогда гимназистов последнего класса, строили всевозможные планы и пытались заглянуть в будущее. Так обычно перед началом любительского спектакля взволнованные исполнители ролей заглядывают в щелку занавеса.
А теперь?
«Ах, – сказал бы Николай Васильевич Гоголь, – все пошло, как кривое колесо».
Какие теперь планы? Какое будущее?
Вот оно, как на ладони: окончание гимназии без выпускных экзаменов, школа прапорщиков, действующая армия.
А уж разговаривать будем после войны, если только не угодим в братскую могилу. Впрочем, господа офицеры не без комфорта лежат в земле под собственным березовым крестом, если, на счастье, имеются березы поблизости. Лежат в собственной яме с нежно-розовыми червями.
Тонечка сжимает мою руку:
– Я пойду сестрой милосердия на тот фронт, Толя, где вы будете драться с немцами.
– Драться?
И убежденно повторяю слова отца:
– Я, Тонечка, не очень люблю убивать людей.
– Все равно придется.
– Вероятно.
Потом она задает мне важный вопрос:
– Толя, а какая любовь самая большая?
– Последняя.
– Почему?
– Потому, Тонечка, что всякая настоящая любовь кажется нам последней.
Отец спросил:
– Толя, ты бывал в шантане?
– Нет.
– Хочется пойти?
– Не прочь.
– Ну что ж, сегодня суббота, завтра гимназии нет, тебе можно поспать вдосталь. Пойдем в кафешантанчик.
– А меня из гимназии за это не выгонят?
– Авось не попадемся. В форме-то, конечно, не пустят. Обряжайся в мое.
– Можно, папа, в синюю тройку с искоркой?
– Валяй. И в демисезонное. Сегодня не холодно. Роста мы уже одного, да и в плечах тоже.
Наш пензенский кафешантан носил гордое имя «Эрмитаж». Помещался он на Московской, в том же квартале, что и Бюро похоронных процессий.
Половина двенадцатого мы сидели за столиком в общей зале, забрызганной розовым светом электрических лампионов, как пензяки называли тюльпановые люстры. В углах стояли раскидистые, мохнатые пальмы, такие же, как в буфетах первого класса на больших вокзалах. Но не пыльные. Стены были оклеены французскими обоями в голых улыбающихся богинях с лирами, гирляндами цветов вокруг шеи и какими-то райскими птицами на круглых плечах. Все богини, как по команде, стыдливо прикрывали левыми ручками то, что полагалось прикрывать после изгнания из рая.
Зал заполняли офицеры, преимущественно Приморского драгунского полка, черноземные помещики, купцы и «свободная профессия» – так величал простой люд врачей и адвокатов. Немногие явились с женами в вечерних платьях провинциального покроя.
Отец заказал бутылочку «Луи Редера». Во время войны был сухой закон, и шампанское нам подали в большом чайнике, как Кнурову и Вожеватову в «Бесприданнице».
Я был торжественно-напряженным и чувствовал себя, как в церкви на заутрене в светло-Христово Воскресенье.
Тучный тапер, с лицом, похожим на старый ротный барабан, яростно ударил подагрическими пальцами по клавишам фортепьяно. Сейчас же на сцену выпорхнула шансонетка.
На ней была гимназическая коричневая форма до голых пупырчатых коленок, белый фартучек, белый стоячий воротничок, белые манжеты. Вдоль спины болтались распущенные рыжие косы с голубыми бантиками.
Я маленькая Лизка,
Я ги-мна-зистка… —
запищала шансонетка.
Тру-ля-ля!
Тру-ля-ля!
А вот, а вот – мои учителя!
И она полусогнутым «светским» мизинчиком показала на громадного жирного купца в просторном пиджаке, потом на усатого пожилого помещика с многолетним загаром до половины лба, потом на длинного лысого ротмистра в желтых кантах Приморского драгунского полка.
Обучалась я прилежно
Всем урокам вашим нежным.
Тру-ля-ля!
Тру-ля-ля!
Вот, вот, вот – мои учителя!
И стала высоко задирать ноги, показывая голубые подвязки и белые полотняные панталоны, обшитые дешевыми кружевцами.
У «гимназистки» было грубо раскрашено лицо: щеки – красным, веки и брови – черным, нос – белилами. От этого она показалась мне уродливой и старой, то есть лет тридцати.
– Папа, как ты думаешь, сколько ей лет?
– Восемнадцать, девятнадцать… А что?
– Так.
Мне стало грустно за «гимназистку».
Справа, через столик от нас, сидели постоянные партнеры отца по винту: пензенский златоуст – присяжный поверенный Роберт Георгиевич Вермель и его жена Маргарита Васильевна – сорокалетняя упитанная дама. Щеки у нее были как мячики, а глаза – как две открытые банки с ваксой. Она поминутно обращала их в нашу сторону и что-то возбужденно шептала мужу, пожимая декольтированными пышными плечами. При этом длинные брови, похожие на земляных червей, все время шевелились.
Супруг, в знак согласия, величаво кивал большелобой головой и тоже пожимал плечами.
– Папа, здесь Вермеля.
– Я уже поздоровался с ними.
– По-моему, они здорово возмущены, что ты привел меня в кафешантан.
– Конечно, – невозмутимо ответил отец.
Я скрипочку имею,
Ее я не жалею.
И у кого хорош смычок,
Пусть поиграет тот разок, —
пищала с подмостков уже другая шансонетка – толстогрудая, толстоногая, в юбочке, как летний зонтик. Она так же, как «гимназистка», была грубо раскрашена: щеки – красным, брови и веки – черным, нос, похожий на первую молодую картошечку, – белилами.
Я брезгливо заморщился.
– Тебе не нравится? – поинтересовался отец.
– А что тут может нравиться? Бездарно, безвкусно! – хмуро ответил я.
Маргарита Васильевна, поймав взгляд отца, сделала ему знак лорнетом.
– Пойду поцелую ручку у Марго, – сказал отец. Шансонетка пищала, задирала до подбородка толстые ноги в стираном-перестираном розовом трико.
Я скосил глаз на Вермелей: златоуст страстно ораторствовал, а Марго то выпускала из мячиков воздух, то вновь надувала их. Черви на лице шевелились.
«У-у, попадает батьке за меня!»
Тучный тапер неожиданно перестал стучать по клавишам.
Унылый зал снисходительно похлопал в ладоши.
До меня донесся спокойный голос отца:
– Анатолий все равно бы отправился в шантан. Вот я и решил: пусть уж лучше пойдет со мной, пойдем вместе.
Тапер опять принялся неистово шуметь. Шансонетка – пищать.
Когда отец вернулся, я сказал: