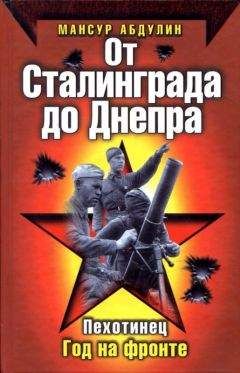А старушкам что? Старушки рады, что бог все же есть: оставил ядреного мужика для разводу человечества крепкого:
— Миленький ты наш солдатик! Родненький ты наш батюшка! — причитают они радостную молитву.
А солдат не горюет, что разбежались молодухи: «Это они сейчас убегли! Вот заживут мои раны — прибегут! Сами прибегут».
Улыбается солдат. Жизнь продолжается!
Я лежу и думаю…
…Помыли меня, ополоскали. Надели чистое белье, рубашку и кальсоны. Понесли в корпус госпиталя — в офицерскую палату, потому что недавно мне присвоено звание «младший лейтенант».
После бани я уснул мертвым сном, утонув в блаженстве, подобного которому никогда больше не испытывал.
Спал более суток. Потом проснулся от голода. Поел и опять уснул. Первые две недели я только спал и даже снов не видел.
Когда я выспался досыта, стал учиться ходить на костылях — искать по палатам и корпусам своих ребят из полка и батальона.
Увидел меня первым наш пулеметчик Василий Шамрай и заорал радостно и громко:
— Комсорг! Наш комсорг! Чуете, хлопцы, цэ наш комсорг! Ей-бо, наш комсорг!
Нацепил на свою нательную рубашку три боевых ордена напоказ всем и героем вертится на своей кровати. Худой, но горластый.
Я каждый день приходил к своему другу Васе Шамраю, так как он был без ноги.
Показывая на меня, Шамрай Вася говорил своим друзьям по палате:
— Спытайтэ у нашого комсорга про остров смэрти! Хай вин сам расскаже, колы мэни не вирытэ.
Шамрай Вася горевал только об одном — он печалился за то, что «нэма писателя, щоб пропысать правду про „остров смэрти“!». Я ему в утешение мог сказать только, что кто-нибудь напишет после войны и про наш остров, и про другие жестокие сражения…
…Через тридцать пять лет после Победы мы встретимся с Шамраем Василием Кузьмичом, и он спросит меня:
— А напысав хто-нэбудь про «остров смэрти»?
— Нет, — отвечу я, — никто не написал.
Я и сам долго буду выжидать, надеясь, что кто-нибудь из наших однополчан напишет… Знал я одного нашего минометчика батальонных минометов Барташевича Эдуарда из Омска. Вот он мог бы, наверное, написать книгу про всех нас… Но он погиб.
Я и сам буду думать — вот бы на моем месте писателю! Сколько материала!.. Вижу вокруг себя много удивительного: и плохого-удивительного, и хорошего-удивительного, вижу много красоты несказанной… Пережил и перечувствовал многое: и войну и шахту. Все перепробовал. И любил! И был любим! Меня распирает от полученных впечатлений, о которых никто не знает, кроме меня… Хочется передать их настоящему писателю, чтоб он написал про нас. Но, работая после войны, как и до войны, в шахтах, на рудниках, я ни разу на своем жизненном пути не встретил писателя. Так, чтобы с глазу на глаз… да знать бы, что ему интересно будет все это слушать, как про себя самого, начиная от первого выстрела под Клетской и кончая госпиталями, которые тоже есть неотъемлемая сторона войны…
А мой друг Шамрай Вася — Василий Кузьмич — при новой нашей встрече в Кременчуге в декабре 1981 года опять свое:
— Нэ напысав ще хто?
А сам пытливо заглядывает мне в глаза. Я догадывался, о чем он говорит мне молча… Но я не смел ему выдать свой секрет, что я начал писать книгу про нас — гвардейцев. Потому что еще неизвестно, получится ли. Кот с колокольчиком не сможет поймать самую глупую мышь. Преждевременным звоном я боюсь спугнуть, сглазить свою мечту… Поздно хватился. Тороплюсь. С памятью пока неплохо. Кстати, странная это вещь, память, избирательная. «Картинку», например, помнишь до подробностей, звуки помнишь, запахи и, что интересно, мысли, которые в тот миг думались, помнишь… А название места забыл! Или неправильно его произносишь. Или дата не та!.. Вот и ползаешь по самой подробной карте, пишешь друзьям, чтобы они вспомнили… Ну в конце концов все-таки все восстановишь, где и когда было, точно. С этим справляюсь. Но вот что тяжелей: ведь все, о чем я пишу, мне надо пережить заново, и у меня от этого «заново» стало побаливать сердце. Успею ли дописать эту книгу до конца? Успеет ли ее прочитать Шамрай Вася?. Он мне тоже жаловался на сердце: «Як шилом колэ наскрозь!» Еще меня смущает, что получается у меня в основном про себя самого. Это не от нескромности. Но ведь я могу записать «солдатский дневник», как он есть во мне, только через свои собственные ощущения. Меня успокаивает надежда, что, может быть, мои товарищи гвардейцы и фронтовики узнают в этом описании и себя самих, и свои чувства в те дни…
В Новых Санжарах в полевом госпитале я пробыл недолго — месяц. Мой седалищный нерв не восстанавливался, нога продолжала бездействовать, и санитарный поезд помчал меня в стационарный госпиталь в Павлово-на-Оке…
Павлово-на-Оке — это уже глубокий наш тыл. Меня поместили в палату, где стояло семнадцать кроватей. Одна из них ждала меня. Бывший хозяин этой кровати скончался во время тяжелой операции. Я хоть и нечужд был суеверия, но на все случаи жизни у меня были свои суждения. На этот случай я сказал себе: «В одну воронку два снаряда подряд не попадают». А еще я был уверен, что от моей раны умереть невозможно, только если уж очень постараться.
Моя койка угловая. Рядом со мной лежит азербайджанец Яролиев, у него ранение в колено.
Из моей дивизии в палате двое, но я их не знал. Еще один из 13-й дивизии нашего 32-го корпуса, но его ранило до операции на «острове смерти», моего друга Сашку Колесникова он тоже не знал. Про остров тот я рассказывал в палате несколько раз, и после моего рассказа всегда все долго молчали.
Операция на «острове смерти» в октябре 1943 года в районе деревни Власовки под Кременчугом — на острове гвардейской славы, где погибли гвардейцы 32-го стрелкового корпуса, — была одним из самых впечатляющих примеров массового героизма и самопожертвования ради общей нашей Победы.
Жили мы в палате дружной семьей, помогали друг другу во всем. Кормили с ложечки, если надо, «утку» подавали, учили ходить… Много вспоминали. И не только про войну. Бывало, медсестры испуганно влетали в нашу палату на шум, загорались пламенем и вылетали обратно… Меня перевязывала медсестра Алла. Волосы огненно-рыжие, большие голубые глаза с ресницами-бабочками. И золотые хлопья веснушек поверх румянца на белой коже… Руки гладкие, белые и тоже в веснушках. Она знала, что у меня постоянно сползает повязка. Сама утром и вечером подойдет к моей кровати, снимет с моей спины одеяло. Я затылком своим вижу ее красивое лицо и боюсь, что вот сейчас она догадается об этом, испугается и уйдет, не сделав мне перевязку. Я замираю. Но сердце мое гулко бьет, как тяжелым молотом… А Алла, не обращая внимания ни на что, неторопливо заканчивает перевязку. Потом укрывает мою спину одеялом и отходит совсем неслышно.