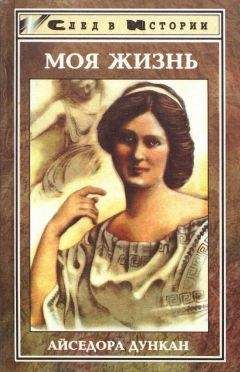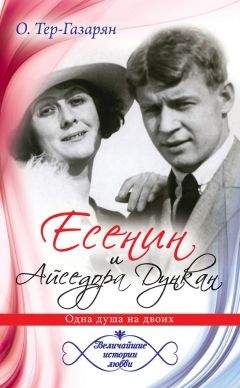Итак, потерпев неудачу в Германии и России в поисках поддержки для своей школы, я решила попытать счастья в Англии. Летом 1908 года я повезла свою паству в Лондон. Под управлением знаменитых импресарио Жозефа Шумана и Чарлза Фромана мы танцевали в течение нескольких недель в театре Дюк-оф-Йорк. Лондонская публика рассматривала меня и мою школу как очаровательную забаву, и я не смогла найти действенной помощи для учреждения будущей школы.
Семь лет прошло с тех пор, как я впервые танцевала в Новой галерее. Я имела удовольствие возобновить прежнюю дружбу с Чарлзом Галле и поэтом Дугласом Энслайем. Часто приходила в театр великая и прекрасная Эллен Терри. Она любила детей и однажды повела их всех, к их радости, в зоологический сад.
В течение короткого времени меня питали надежды на школу в Англии, но кончились они новым разочарованием.
Как всегда, моя скромная паства требовала огромных расходов. Опять мой счет в банке совершенно иссяк, и под конец школа оказалась вынужденной вернуться в Грюневальд, где я подписала с Чарлзом Фроманом контракт на турне по Америке.
Расставание со школой, с Элизабет и с Крэгом мне стоило больших страданий, но превыше всего печален был разрыв крепких уз между мной и моей девочкой, Дирдрэ, которой уже минул почти год.
И вот в один прекрасный день я оказалась совершенно одна на большом пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк, как раз спустя восемь лет с тех пор, как я уехала оттуда на судне для перевозки скота. В Европе я была уже знаменита. Я успела создать искусство, школу, ребенка. Не так уж плохо! Но в финансовом отношении я была немногим богаче, чем прежде.
Чарлз Фроман был великим директором, но ему не дано было понять, что мое искусство нельзя подвергать такому риску, как театральный спектакль. Оно могло апеллировать лишь к ограниченному кругу зрителей. Фроман выпустил меня в августовский зной в качестве аттракциона на Бродвее с маленьким, неполным оркестром, покушавшимся играть «Ифигению» Глюка и Седьмую симфонию Бетховена. В результате, как и следовало ожидать, полная неудача. Немногочисленные зрители, которые заходили в театр в эти знойные вечера, когда жара достигала девяноста градусов[55] и даже выше, приходили в недоумение и в большинстве оставались недовольными тем, что они увидели. Отзывы немногих рецензентов оказались отрицательными. В общем, я не могла не чувствовать, что мое возвращение на родину явилось большой ошибкой.
Как-то вечером, сидя в своей уборной и чувствуя себя особенно обескураженной, я услыхала приятный задушевный голос, приветствовавший меня, и увидела стоящего на пороге мужчину невысокого роста, с копной темных кудрявых волос и пленительной улыбкой. Он протянул мне руку непосредственным и доброжелательным жестом и наговорил столько прекрасных слов о впечатлении, произведенном на него моим искусством, что я почувствовала себя вознагражденной за все, что претерпела со дня своего прибытия в Нью-Йорк. Это был Джордж Грей Барнард, американский скульптор. С тех пор каждый вечер он приходил на мой концерт и часто приводил с собой артистов, поэтов и других своих друзей. Среди них были Давид Беласко, театральный режиссер, художники Роберт Генри и Джордж Беллоуз, Перси Мак Кэй, Макс Истмэн — действительно, все молодые революционеры Гринвич Вилледжа. Вспоминаю также трех неразлучных поэтов, живших вместе в башне у Вашингтон-сквер, — Э. А. Робинсона, Риджли Торренса и Вильяма Ван Муди.
Дружеские приветствия и внимание поэтов и артистов очень меня ободрили, возместив холодность и равнодушие нью-йоркской публики.
Уолт Уитмэн сказал как-то: «Я слышу, как Америка поет». Как-то в один прекрасный октябрьский день, когда погода была такой, какой она бывает лишь в Нью-Йорке осенью, мы стояли с Джорджем Барнардом на холме, с которого открывается вид на окрестности. Простирая руки, я сказала: «Я слышу, как Америка танцует». И мои слова вдохновили его задумать статую; он хотел, чтобы я была его моделью.
Каждое утро я приходила в его студию, захватив с собой корзинку с завтраком. Мы провели много восхитительных часов, беседуя о перспективах искусства в Америке.
Статуя «Америка танцует» была начата великолепно, но, увы, дальше она не подвигалась. Вскоре, из-за внезапной болезни жены Барнарда, пришлось отказаться от позирования. Я надеялась оказаться его шедевром, но не я вдохновила шедевр Барнарда, а Авраам Линкольн, статуя которого сейчас стоит в мрачном саду перед Вестминстерским аббатством.
Чарлз Фроман, найдя дальнейшее пребывание на Бродвее губительным, попробовал совершить турне по меньшим городам, но и оно было также плохо организовано и закончилось еще большей неудачей, чем даже концерты в Нью-Йорке. Наконец, потеряв терпение, я отправилась поговорить с Чарлзом Фроманом. Я застала его очень расстроенным, вспоминающим о всех потерянных им деньгах.
— Америка не понимает вашего искусства, — сказал он. — Оно значительно выше ума американцев, и они никогда его не поймут. Вам было бы лучше вернуться в Европу.
У меня был контракт с Фроманом на шестимесячное турне с гарантией вне зависимости от успеха. Тем не менее, движимая чувством уязвленной гордости, а также из презрения к его страху перед риском, я взяла контракт и, разорвав его перед глазами Фромана, произнесла: «Во всяком случае, я освобождаю вас от всякой ответственности».
Следуя советам Джорджа Барнарда, неоднократно говорившего мне, что он гордится мной, как детищем американской земли, и что он будет очень горевать, если Америка не оценит моего искусства, я решила остаться в Нью-Йорке. Итак, я наняла студию в Бозар Билдинг[56] и, убрав ее своими голубыми занавесями и ковром, приступила к новому творчеству, танцуя каждый вечер перед поэтами и артистами.
Я радовалась, что послушалась советов Джорджа Грея Барнарда. Ибо однажды в студии появился человек, благодаря которому мне удалось снискать признание американской публики. Это был Вальтер Дэмрош[57]. Он видел, как я танцевала Седьмую симфонию Бетховена в театре Критерион, при небольшом, скверном оркестре, и у него хватило воображения понять, какое впечатление произвел бы этот танец, вдохновленный его собственным прекрасным оркестром.
Дэмрош предложил мне дать ряд концертов в «Метрополитен-опера» в декабре, на что я с радостью согласилась.
Результат был в точности такой, как он предсказывал. На первом же концерте Чарлз Фроман, приславший за билетом в ложу, поразился, узнав, что в театре не осталось ни одного свободного места. Этот опыт доказывает, что как бы велик ни был артист, без соответствующего обрамления может проиграть даже величайшее искусство. Так случилось с Элеонорой Дузе при ее первом турне по Америке. Из-за убогой организации она играла перед почти пустым залом и полагала, что Америка ее никогда не оценит. Между тем, когда она вернулась туда в 1924 году, ее встречали беспрестанными овациями от Нью-Йорка до Сан-Франциско единственно оттого, что на этот раз у Мориса Джеста оказалось достаточно артистической чуткости, чтобы понять ее.