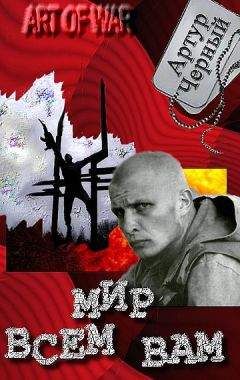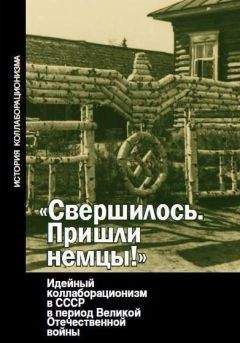А мы врали людям. Врали почти всегда. Несли всякую чушь о проделанной огромной работе, о том, что найдутся виновные, что будут нами наказаны, о том, что справиться в срок помешали другие отделы и службы… Врали, не отводя глаз. Вовсе не из мерзости своей натуры. Скорее от усталости. Мы не могли каждому все объяснить. Нас бы не поняли в двух словах, а тратиться на долгие речи, не выдержал бы язык. Работа поглощала целиком. Она забирала каждую минуту, отнимала день, воровала жизнь. Я вечно слышал только одно: «Ты будешь наказан! Ты будешь сидеть без зарплаты! Мы научим тебя работать!..» И теперь какие-то прежние мысли о карьере, о долге перед погонами, о помощи людям, — всё ушло, как дым. Теперь я ни о чем не думал, кроме, как выспаться, избавиться от очередной бумажки, потеряться от начальства в каком-нибудь патруле. У меня не было того часа, когда бы я не служил в милиции. Я кое-как переживал день, а она приходила ко мне во сне, кошмарная моя работа. Я вставал среди ночи, напяливал форму, шел через весь город за жуликом, приводил его к себе и пристегивал наручниками к батарее. А сам падал спать до того часа, как встанут на рельсы трамваи. А жулик всегда бежал. Он ломал наручники, снимал батарею, отрезал себе руку, но никогда не ждал, пока я проснусь. А я поднимался и не верил, что всё это сон. Лез в шкаф за наручниками, проверял на месте ли батарея, искал на полу кровавые пятна. Но не было и следа, что у меня кто-то был. Ничего, кроме мокрых на голове волос, кроме неясной на сердце тревоги…
Я стал ненавидеть все праздники, концерты, соревнования, футбольные мачты, что брал на себя город. Потому что встречали мы их в оцеплениях, в заграждениях, в патрулях, злые, голодные. И были сверхурочные часы, сутки, за которые не говорилось и простое человеческое «спасибо», не говоря о каких-то там премиях, о каких-то там выплатах. Свою зарплату мы считали по копейкам. Как бы не раздували миф о материальном нашем благоденствии, его не было никогда. За гроши своей зарплаты мы мотались по засадам, по рейдам, где нередко сами становились пострадавшими и жертвами. И это было так открыто, так на виду! Но никто, никто ничего не видел! Для всех мы были «ментами», «мусорами», «оборотнями». И мы, не понимая близорукости людей, сами все больше отдалялись от них… Нет, мы не желали кому-то зла и не сделались эгоистами. Наоборот, чаще сталкиваясь с несправедливостью, только сильнее верили в справедливость. И пытались делиться ею с людьми. Но та их часть, которой мы помогли, была всегда неизмеримо меньше, чем та, что не дождалась этой помощи. Зачастую мы сами не видели этого и очень болезненно переживали упреки в свой адрес.
А еще оказалось, что нет у нас никаких законов. Есть, да не про нашу честь. Для того, чтобы посадить грабителя, хулигана, насильника всегда нужно было идти только на нарушение этого закона. Потому что у преступника было больше прав, чем у любого от него потерпевшего. И виноватому даже не нужно было искать лазейку в законе, чтобы уйти от расплаты. Закон и так был на его стороне. У этих воров и убийц всегда было столько свобод! И не им, а нам приходилось сходить с ума, хитрить, изворачиваться, чтобы обойти наши законы. Чтобы толкнуть преступника в двери тюрьмы. И нам, милиционерам, не верили! Не верили в судах, косо смотрели в прокуратурах, не слышали на любой людной улице. А тот, кто привык раздевать в подворотнях прохожих, обирать в парках зазевавшихся поздних гуляк, избивать вечерами на кухне своих жен и детей, попав в руки милиции, неожиданно становился святым. Неожиданно забывал за собой всю вину, и писал кляузы по всем адресам на «оборотней в погонах». Он-то прекрасно знали, что в демократической нашей стране нет никакой веры милиции. И многие наши товарищи сами попали под горящие «планы» судов и прокуратуры, сами надели наручники, сами пошли по этапу. Из-за одного доноса, из-за единственной жалобы…А за их спинами были десятки и сотни раскрытых преступлений, был Афган, Карабах, Чечня. Были кресты Мужества, медали Отваги. Была целая жизнь, потраченная на службу России…
Я всегда сравнивал милицию с Армией. Если бы я не знал, что существует Армия, наверное, мне было бы проще здесь. Я бы меньше замечал несправедливость, меньше огорчался на ложь, меньше винил бы систему. Но, увы, мне было на что оглянуться! Было, что привести в пример. Да, тупая нелегкая служба, да, армейское неравноправие и самодурство, вечные скитания, учения и тревоги, непредсказуемая, как завтра, судьба, неизбежная, как старость, нужда… Но… Но там никогда не теряла цены отвага, не уступала слабости сила, умела говорить правда. А что я увидел здесь? Устану перечислять. Да и зачем, если и так некому постоять за милицию….
Обидно. Обидно, что нас делали такими: сгибали высоких, возвышали низких, клеймили правдивых, гнали строптивых. И тысячи нас бежали из этой милиции, как бегут воры, попавшие в людный двор. Не успевали высохнуть чернила наших контрактов, как мы без сожаления рвали их, бросая навек милицейскую форму. Уходили новички, уходили профессионалы, патриоты своего дела. Мы столько теряли каждый месяц и год, столько недосчитывали в своих рядах! Как там гласит народная мудрость: кто хочет остаться честным, должен покинуть этот дом… Но среди тех, кто не уходил, кто терпел весь этот бардак, среди большинства «сереньких», «безымянных», «безвольных», все же были и те, кто остался верен себе, кто искренне надеялся, что когда-то сломает систему. Милиционеры с большой буквы. Люди, что смогли остаться честными, не покинув этого дома.
Да, были Мужчины! Мужчины, которые, дай Бог, еще изменят облик милиции. Вернут былую гордость нашим погонам.
…Я засомневался в самом себе. Зачем я учился, зачем стремился к этим погонам? Для чего она сбылась, детская моя мечта стать офицером? Для чего? Если теперь я ненавижу каждый свой день?
…Невыносимая моя осень. Она пришла не на землю Алтая, она вошла в мою душу. Она открыла мне страшную свою тайну: больше нечего ждать. Не будет никакого счастья и никакой любви. Им просто не по пути с погонами. Все лучшие мои годы потрачены зря. Юность, о которой я так тосковал и так надеялся еще вернуть, кончилась.
Я понял, что впереди ничего нет, кроме пустоты. А всё, что осталось от жизни — это лишь прошлое. И теперь я не знал более важных дел, чем приходить к тем аллеям и паркам, где когда-то, уже так давно, бродила моя любовь. А они были всё так же холодны, полны черного воронья и низких косматых туч, аллеи несбывшихся прошлых надежд. И никого не было на пустых тропинках, кроме меня. И никто не приходил к месту прежних моих свиданий. И только я, сбежав от работы, сидел на сырых скамейках в синем своем бушлате, держа в груди разбитое свое сердце, — единственный непьющий бездомный, явившийся на поминки собственных чувств.