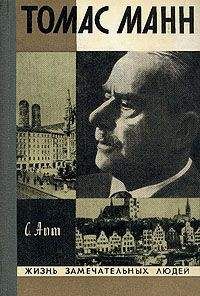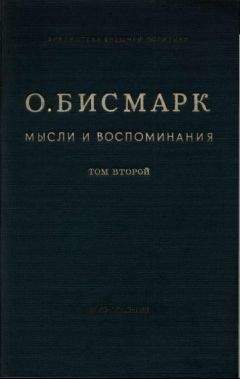И то, и другое пишет художник, занятый пока всерьез не общественно-политическими вопросами, а сугубо личной проблемой «выдержки», синтеза «счастья» и «представительства». Проблемы этой он для себя не решил, и развязку, которая ее, как в сказке, снимает, справедливо находит художественно неубедительной, лживой.
Через много лет, в 1944 году, в письме к Агнес Э. Мейер, собиравшейся написать его биографию, Томас Манн, словно бы исполняя свое давнее предсказание о том, что в будущем о «Королевском высочестве» вспомнят разве лишь ради «альтруистического», или «демократического», аспекта романа, определит его место в своем творчестве так: «В этом с тех пор превзойденном — а превзойти его легко — романе-сказке можно, я думаю, увидеть веху того развития, которое в эпоху «Размышлений» (имеется в виду его книга «Размышления аполитичного», то есть эпоха первой мировой войны. — С. А.) было прервано взыгравшей во мне стихией протестантизма и романтической антиполитичности, а потом возобновилось уже сознательнее». Нам кажется, однако, что такая оценка, сделанная с огромного временного расстояния, сбрасывает со счета как раз лично-биографическую подоплеку романа — тогдашнюю герметическую замкнутость автора в сфере своего «строгого счастья», замкнутость, судя по радужной развязке, на сей раз опасно прекраснодушную. В этом смысле «Королевское высочество» было вехой развития, которое «Размышления аполитичного» — о них речь впереди, но в данном случае выразителен и самый заголовок — не прервали, а, напротив, продолжили и завершили.
«Закончив «Королевское высочество» — мы опять возвращаемся к «Очерку моей жизни», — я начал писать «Исповедь авантюриста Феликса Круля», странную вещь, на которую меня, как об этом догадались многие, навело чтение «Воспоминаний» Манолеску».
Один берлинский издатель, Пауль Лангеншейдт, напечатал в 1905 году, двумя частями, мемуары международного афериста и гостиничного вора Жоржа Манолеску, чьи мошенничества незадолго до этого были сенсационной темой мировой прессы. Первая часть называлась «Князь воров», вторая — «Фиаско. Из переживаний преступника». Книги эти попали в руки писателя случайно. Приступая к выпуску серии под красноречивым названием «Sans-Gene»21, Лангеншейдт разослал образцы ее нескольким знаменитостям, в их числе — Томасу Манну.
Наш герой не раз говорил, что материал порой идет к нему сам и валится в почтовый ящик. Мемуары Манолеску — прекрасный тому пример. Но почему он так ухватился за этот именно материал, почему он сразу включил его в свои планы и, едва закончив роман о принце, принялся за роман о человеке совсем иного социального положения, о деклассированном прохвосте и воре, подделывающем подписи, разъезжающем по миру под чужим именем, присваивающем себе титул маркиза и вообще ежедневно и ежечасно выдающем себя не за того, кто он есть?
Эпитет «странная», настойчиво, как видим, относимый автором к этой работе, имеет в виду, вероятно, возможность такого недоумения, такого непонимания причин, по которым его увлек образ авантюриста. Ведь и «Королевское высочество» было понято некоторыми читателями не как аллегорическая автобиография, а как роман из придворной жизни, и в одном мюнхенском журнале появилась даже заметка за подписью: «Владетельный князь, не желающий назвать себя», где августейший критик ругал писателя за неточное или неверное изображение дворцового церемониала, ничего, кроме бытописания, из этой книги не вычитав. Да и на опыте «Будденброков» автор уже мог убедиться в склонности читающей публики ждать от литературы фотографически достоверных картин и искать за каждым, созданным воображением художника персонажем конкретную живую модель.
Много выше мы говорили о чувстве неприкаянности, деклассированности, «цыганства» художника, получившем выход в «Тонио Крегере», и только что — о глубоко личной проблематике «княжеского» романа, об аллегоричности образа принца. Нам кажется, что после всего сказанного не требуют особых пояснений ни интерес писателя к мемуарам авантюриста, ни аллегоричность фигуры, выбранной Томасом Манном в герои следующей книги, ни мотивы, по которым владелец первой в своей жизни виллы, — загородный дом в Тёльце, в долине реки Изара, у подножия Альп, был уже построен к этому времени, — зять миллионера и отец уже трех детей собирался сделать своего героя, Феликса Круля, лифтером в той самой гостинице «Бор о Лак», где он, Томас Манн, жил почетнейшим постояльцем четыре года назад.
«Исповедь авантюриста» можно назвать психологическим дополнением к «Королевскому высочеству» (так, приступая к ней, определил эту работу автор в интервью 1909 года) не только потому, что в обоих произведениях при всем различии материала речь идет о человеке, который, проявляя великую выдержку, живет вне общества, но притворяется его членом, то есть в конечном счете о человеке искусства, о самом авторе, ибо такой иллюзорной, растворившейся в игре упорно представлялась Томасу Манну в эти «герметические» годы его собственная жизнь. Психологическое сходство есть и в другом — в шутливом тоне, окрашивающем оба романа и как бы снимающем проблему. В «Королевском высочестве» был прекраснодушный happy end. В «Исповеди авантюриста» на первых же страницах, правда, обещано фиаско «постаревшего и усталого» героя в конце, то есть некая трагедия, но до конца Томас Манн этот роман не довел, хотя возобновлял работу над ним дважды, — второй раз уже в глубокой старости, а то, что было написано в первый присест, в 1910—1911 годы, «Книга детства» Круля, — это поистине комедийная перелицовка истории «гибели одного семейства». И если развязку «Королевского высочества» сам автор, едва закончив роман, назвал лживой, а работу над «Авантюристом» вскоре отставил, то между этими двумя фактами есть, нам кажется, тоже психологическая связь. «Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства», — говорит в тетралогии об Иосифе сыну Иаков. Воспользуемся этими словами патриарха, чтобы намекнуть на неудовлетворенность писателя своим юмористически благодушным подходом к проблеме «художник и бюргер», к совсем нешуточной для него проблеме «выдержки».
Трагическое событие, случившееся в июле 1910 года, не могло не усилить его неудовлетворенности таким несоответствием и, вероятно, было одной из причин временного отказа от работы над «Крулем», вскоре последовавшего.
В тёльцском доме мирно текла летняя жизнь. Детей было уже четверо, старшие, девочка и два мальчика, пребывали в том возрасте от двух до пяти, простое обозначение которого стало для читателя — во всяком случае, для русского читателя — выразительнее иных описаний, младшая появилась на свет в прошлом месяце. Дни шли размеренно-однообразно, ровно в двенадцать он кончал свой урок, выходил в сад, шел просекой, потом лугом, по топкой змеистой тропинке к пруду, купался с детьми и Катей. Работа спорилась, первую главу «Круля» он уже прочел вслух в семейном кругу.