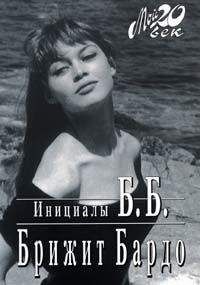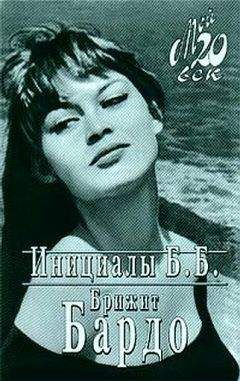Я купила колыбель, шкафчик для пеленок, подогреватели для бутылочек и английскую прогулочную коляску с большими колесами. Но детского приданого у меня было немного. Бабуля связала какие-то белые вещички — я хотела, чтобы все было только белое. Они были такие крошечные, даже не верилось, что в них поместится ребенок. Одна фирма, выпускающая товары для новорожденных, должна была прислать мне в подарок все необходимое ребенку в первые годы жизни.
Муся приехала и царила во владениях напротив.
Клоун и Гуапа выражали свое недоумение непрестанным лаем. Клоун, более нервный, чем Гуапа, бросался на каждого, кто проходил из одной квартиры в другую — двери были все время открыты, потому что ходили туда-сюда часто. Пришлось отдать Клоуна доктору Д., который его очень любил. Я была в отчаянии от разлуки с моим милым коккером!
Решительно, роды становились тяжким испытанием.
Я воспринимала их как расплату с жизнью и твердо решила: если выживу, никогда больше не стану рабой младенца, который так глупо переворачивает жизнь женщины, плохо ко всему этому подготовленной.
Жак выглядел очень усталым, подавленным: испытание, которое он так трагически пережил, оставило на нем неизгладимый отпечаток на всю жизнь. Как сказал бы мой Бум, «ваши дела следуют за вами по пятам».
Рождество и Новый год прошли у нас совсем не празднично. Только мама прислала мне украшенную елочку, чтобы соблюсти традиции. Проходя мимо нее, я думала: «Пахнет елкой!»
Комментарии излишни!
Вечером 10 января мы — Жак, Гуапа и я — смотрели телевизор. Было воскресенье, у горничной выходной. Я лежала и наслаждалась записью «Кармен» в «Опера» с Джейн Родс и оркестром Роберто Бенци. «Кармен» вошла в репертуар «Опера» — это было событие. Я думала о Бизе, о том, как осчастливило бы его это признание через столько лет после его кончины, и тут вдруг острая боль пронзила мне живот. Согнувшись пополам, задыхаясь, я едва смогла пересохшими губами сказать Жаку: «Началось».
— Что началось? — спросил он.
До чего же мужчины порой туго соображают, дебилы, да и только!
Под звуки знаменитой арии тореодора, которого ждала любовь, я корчилась в спазмах такой силы, что мой организм, конечно же, не мог долго этого выдержать.
Я стану третьей жертвой фильма «Хотите танцевать со мной?».
Я умру, умру, я точно знаю.
Я далеко не неженка. Мне выпадали в жизни физические страдания, боли на грани переносимого, и всегда я с ними справлялась. Но то, что терзало мой живот, раздирало меня надвое в ту ночь с десяти до двух часов, находится за пределом всех человеческих возможностей. Как смертельно раненный зверь, я кричала, не сдерживаясь, не воспринимая ничего, кроме своей боли. Схватки следовали одна за другой так часто, что я не успевала перевести дыхание.
Я была вся мокрая от пота, волосы слиплись, меня рвало, изо рта текла слюна.
Доктор Буане пытался заставить меня дышать, как дышат щенята, часто-часто и очень сильно выдыхая, но куда там! Другая жизнь во мне, которая была сильнее моей собственной, пользовалась моим телом, чтобы принять свою судьбу. Я стала ненужным коконом, который куколка покидает, превращаясь в бабочку.
Меня перенесли на холодный стол, на который женщину кладут, как на жертвенный алтарь. Я видела склоненные головы между моих широко раздвинутых ног. Я всегда была так стыдлива во всем, что касалось секретов моего тела, тайны моего пола — и вот я лежу, разодранная, окровавленная, словно туша на прилавке мясника, и меня потрошат глазами все эти незнакомцы. Какая-то могучая сила заставляла меня исторгать наружу меня самое. Испуская нечеловеческие вопли, я выталкивала все мое нутро. Я вдыхала отвратительный запах, было душно, анестезиолог дал мне маску, я задохнулась. Дьявольский перезвон колокольчиков у меня в ушах слился с криком новорожденного, перед глазами замелькали желтые и синие полосы, как будто вдалеке я слышала бесконечно повторяющееся эхо, и мое тело охватил огонь где-то в самой его сердцевине.
Все, я умираю...
Я открыла глаза и удивилась, что не вижу больше горы раздувшейся до предела плоти, которой был мой живот, а на ее месте оказалось что-то теплое — я подумала, что это резиновая грелка. Сильно жгло между ног. Я чувствовала только эту боль, той, другой больше не было! «Резиновая грелка» тихонько шевелилась на моем животе — это было первое знакомство с жизнью.
Когда я, окончательно придя в себя, поняла, что это мой ребенок тихонько ползет по мне, я завопила, умоляя, чтобы его забрали: я носила его девять кошмарных месяцев, я не хочу его видеть! Мне сказали, что у меня мальчик!
— Мне все равно, я не хочу его видеть!
И я забилась в истерике...
Это может показаться крайностью, согласна, это нелепо, не укладывается в голове.
И все же я отвергала моего ребенка!
Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее. И вот теперь, после того как кошмар достиг высшей точки, я должна была на всю оставшуюся жизнь взвалить на себя то, что принесло мне столько мук.
Нет, ни за что, лучше умереть!
Бедный малыш, ни в чем не повинный, спал свою первую ночь, отвергнутый, далеко от меня, за лестничной площадкой и двумя крепко запертыми дверями. Наверное, я была чудовищем!
Внизу авеню Поль-Думер превратилось в бушующее живое море. Сотни и сотни фоторепортеров и журналистов остановили уличное движение. Все обсуждали рождение самого знаменитого ребенка года. Моя консьержка, мадам Аршамбо, заперла подъезд на ключ, предварительно выгнав половой щеткой самых ловких репортеров, притаившихся на каждом этаже. Вызванный папой полицейский нес охрану у дома, как будто это была резиденция главы государства. Автомобильные гудки на все лады скандировали добрые пожелания в мой адрес от всей этой безымянной и гордой за меня толпы!
С самого утра дом был заполнен цветами; тысячи букетов, и великолепных, и скромных, прислали все, кто меня любил, и богатые, и бедные. От Робера Оссейна мне доставили восхитительную золоченую клетку, в которой пели две прелестные канарейки.
Жак, взволнованный, потрясенный до глубины души, смотрел на меня с бесконечной благодарностью. Радость переполняла его: родился сын, долгожданный, желанный. Из нас двоих у него был сильнее развит материнский инстинкт! Он принес мне белый сверток, из которого чуть виднелась негроидная головка зачинщика всей этой суматохи. Надо было кормить. Нет, нет и нет! Я не дам грудь.
Я не стану уродоваться, принуждая себя к бесчеловечной роли кормилицы. Теперь есть всякие смеси, близкие к материнскому молоку. Пусть Муся разбирается как знает! Мои огромные, раздувшиеся груди болели, молоко промочило насквозь рубашку и простыни, но я не хотела больше отдавать ни капли себя — пусть даже лопну!