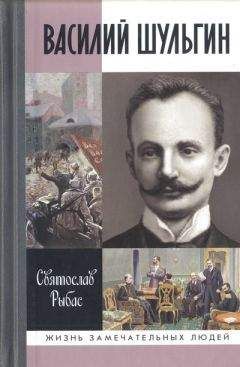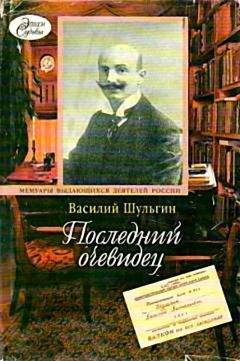Итак, Львов – премьер… Затем министр иностранных дел – Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом и характером. Гучков – военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем III Государственной Думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифрировал Мясоедова…
Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус… Но это в наших глазах. А в глазах кадетских – совсем наоборот.
Прокурор святейшего Синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой «церковник» и так много что-то «обличал» с кафедры Государственной Думы…
С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной Думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, «яко прогрессист» – подходит.
Но вот министр финансов не давался, как клад…
И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко [131].
* * *
Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно «лидировал» автомобиль и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время очень «интересовался революцией», делая что-то в военно-промышленном комитете [132]. Кроме того, был весьма богат.
Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?
А вот потому, что бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то так же обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях – «общественным доверием облеченных», которых на самом деле вовсе не было…
Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, – каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну, в разгаре революции?..
Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат «соотношения реальных сил». Я же рассказываю, как было. Tургенев [133] утверждал, что у русского народа «мозги – набекрень». Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за сто лет «борьбы с исторической властью»…
* * *
Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше – консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали если не с молоком матери, то с японской войной. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905-м мы ее задавили. Но вот в 1915-м, главным образом, потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами. С этого все и пошло. «Мы будем твердить: все для войны, – если вы будете бранить власть»… И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе…
* * *
Нерассказываемый и непередаваемый бежал день… зарываясь в безумие… и грозя кровью…
* * *
Вечером додумались пригласить в Комитет Государственной Думы делегатов от «исполкома», чтобы договориться до чего-нибудь [134]. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности, вопрос стоял – или мы, или они. Но «мы» не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной Думе. «Они» же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось «силою Государственной Думы». Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они – пришли…
* * *
Пришло трое… Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор приказа № 1. Если он его писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова пришло двое – двое евреев. Один – впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес [135], другой – менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный…
* * *
Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной Думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:
– Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.
И помню ответ Стеклова:
– Мы не собираемся вас арестовывать…
* * *
Стеклов был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование… Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его?.. Во всяком случае, это был весьма здоровенный человек, с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского «русака»…
Гиммер – худой, тщедушный, бритый, с холодной жестокостью в лице, до того злобном, что оно даже иногда переставало казаться актерским… У дьявола мог бы быть такой секретарь…
За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.
Сама постановка дела ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть ли не на коленях умолять двух мерзавцев «из жидов» и одного «русского дурака», никому не известных, абсолютно ничего из себя не представляющих.
Кто это – мы? Сам Милюков, прославленный российской общественности вождь, сверхчеловек народного доверия! И мы – вся остальная дружина, которые, как-никак, могли себя считать «всероссийскими именами».
И вот со всем нашим всероссийством мы были бессильны. Нахамкес и Гиммер, неизвестно откуда взявшиеся, – они были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров или пока помилуют…