и сходящимися на переносице бровями еще не успел отличиться. Он слишком мало времени провел в Риме. Не имел ни военного опыта, ни политического веса. Щуплый и неказистый молодой человек приехал заявить права на самое желанное наследство в тот век – имя своего двоюродного деда.
Ранним утром следующего дня Октавиан появился на Форуме, где принял усыновление покойного Цезаря. Далее он отправился к Марку Антонию, в сады его прекрасного поместья, куда юношу пригласили лишь после долгого, унизительного ожидания. Не важно, как он представился – а поклонники уже называли его Цезарем, – этот визит только усилил напряжение. Если у Клеопатры появление Октавиана в Риме вызвало некоторую тревогу, то Марку Антонию оно и вовсе показалось оскорблением. Последовал напряженный разговор двух мужчин (с точки зрения сорокалетнего Антония – мужчины и мальчишки), считавших, что каждый из них имеет равные права на наследие Цезаря. Октавиан был щепетилен и вдумчив, а позже и вовсе превратился, можно сказать, в маньяка или «контрол фрика»: он наверняка заранее отрепетировал свои реплики (даже разговаривая с женой, наследник Цезаря предпочитал записывать свои мысли и потом их зачитывать). Так что молодой человек тогда, в 44 году до н. э., произносил заученное хладнокровно, с уверенностью и прямотой. Почему Антоний не предал убийц суду? (Чтобы сохранить мир, все партии согласились на амнистию. Однако именно Антоний председательствовал тогда в сенате.) Главные зачинщики не только остались живы, но еще и получили должности провинциальных правителей и военачальников. Октавиан попросил: «Обещай мне помощь и содействие, когда я буду мстить убийцам» [66]. Если же тот не может – то пусть с почтением отойдет в сторону и не мешает. В конце концов, Антоний мог бы точно так же политически наследовать Цезарю, действуй он более предусмотрительно. Да, и что касается наследия, не будет ли Антоний так любезен и не передаст ли золото, оставленное Цезарем, для обещанных народу раздач? И добавил, что Антоний может оставить себе «все ценности и убранства», перенесенные к нему в дом из дома Цезаря, – больше обвинение, чем позволение.
Марк Антоний был более чем вдвое старше Октавиана. За последние два года он заполучил огромную, хотя местами и скандальную известность. Более того, он уже расправился с наследством Октавиана, как раньше опустошил бывший дом Помпея – просто раздав друзьям чудесные шпалеры и мебель. Он не нуждался в напоминании о том, что едва не стал преемником человека, которого обожал и ставил выше всех. Он также не желал выслушивать нравоучения от тщедушного, самодовольного выскочки. В общем, Антоний был шокирован. Своим богатым, хрипловатым голосом он высказался в том духе, что управление государством в Риме не передается по наследству. Именно из-за того, что Цезарь начал пренебрегать подобными законами, его и убили. Он, Антоний, сильно рисковал, чтобы диктатора похоронили со всеми почестями, и еще больше рисковал ради его завещания. Только благодаря ему, сообщил он Октавиану с раздражением, досталось имя, положение и состояние [67]. Антоний не обязан отчитываться перед сопляком. Он заслуживает благодарности, а не обвинений. Как нередко с ним случалось, Антоний не смог противостоять искушению и добавил в свое послание каплю яда, желая наказать парня за неуважение, «проявленное тобой, молодым человеком, ко мне, человеку значительно старше». Октавиан сильно ошибается, если полагает, что Антоний мечтает о власти или отказывается признавать наследника. Антоний молвил, что ему достаточно происхождения от рода Геракла. Широкоплечий, с бычьей шеей, копной кудрей и орлиными чертами возмутительно красивого лица, он полностью соответствовал образу. А насчет денег, так у него их нет. Гениальный приемный отец Октавиана оставил государственную казну пустой.
Несмотря на взрывоопасность, этот обмен мнениями принес некоторое успокоение сенату, которому лишь одна проблема виделась более серьезной, чем борьба между двумя цезарианцами. Антоний обладал политической властью. Октавиан завоевал уважение и удивительную популярность. Везде, куда он приезжал, его приветствовали толпы сторонников. Будет намного лучше, решили все, если два соперника начнут бороться друг с другом, чем если они объединятся. Антоний тоже кое-что понял этим весенним утром. Октавиан только что закончил обучение, в ходе которого наверняка узнал: народ сам поощряет разногласия и сам превозносит болтунов лишь затем, чтобы потом иметь удовольствие сбросить их с пьедестала, чтобы они сами друг с другом грызлись [68]. Разумеется, он не ошибался. И никто не умел раздуть вражду лучше Цицерона, на которого, как высказался один из современников, всегда можно было рассчитывать, если требовалось «оклеветать известных, шантажировать могущественных, оскорбить отличившихся» [69]. Это сейчас пришлось очень кстати.
Перед Цицероном стоял нелегкий выбор между слабостью и подлостью. На самом деле вариантов перед ним разворачивалось ошеломительно много. Среди убийц Цезаря ярко высвечивались фигуры Брута и Кассия. Кроме того, в Испании бил копытом храбрый юноша, неплохо умевший собирать армии, – сын Помпея вместе с большей частью римского флота. Секст Помпей унаследовал еще не померкшую славу отца и тоже жаждал отомстить за родителя, а заодно и забрать то, что после него осталось (у него, возможно, имелось больше оснований для мести: юношей он своими глазами видел убийство отца у берегов Египта). Да и консул Марк Эмилий Лепид, шедший вторым после Антония в списке потенциальных преемников Цезаря и ужинавший с Цезарем накануне убийства, мечтал занять его место. Он командовал частью армии диктатора. Другим консулам подчинялись другие легионы. Неожиданно собственную армию в очень короткий срок собрал Брут [84]. Казалось, без войска остался лишь Октавиан.
Цицерон, после ид самый влиятельный человек в Риме, оказался почти в такой же ситуации, как Клеопатра. К какой из сторон примкнуть? Он понимал, что отсидеться за удобной вывеской «нейтралитет» в данном случае – а это была уже пятая гражданская война в его жизни – не удастся. В то же время он лично знал каждую из сторон, и ни одна не приводила его в восторг. В 44 году до н. э. Октавиан представлялся ему школьником, скорее головной болью, чем будущим правителем. «Не доверяю возрасту; не знаю, с какими намерениями», – сетует в переписке с Аттиком Цицерон. Трудно было представить главнокомандующим Октавиана, бледного отрока, в городе, где предпочитали взрослых мужчин типа «кровь с молоком». Он претендовал на лидерство, и при этом был так наивен, что верил: в Риме что-то от кого-то можно утаить! (Интересно, что мало кто серьезно воспринимал этого парня в его восемнадцать лет, хотя в таком же возрасте Клеопатра уже правила Египтом.)
К маю 44 года до н. э. Цицерон, уехавший из ставшего небезопасным для него Рима, остановил свой выбор на Долабелле, хотя и с


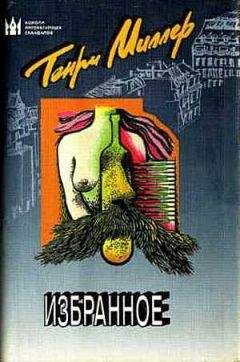
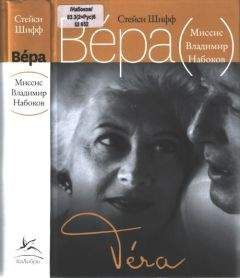

![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](https://cdn.my-library.info/books/2818/2818.jpg)