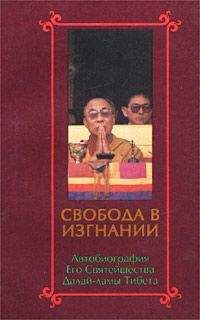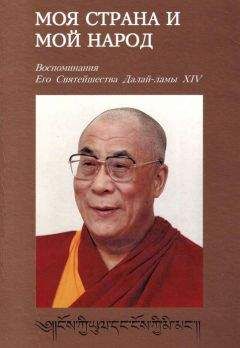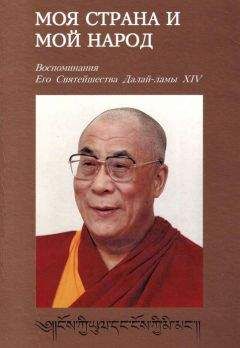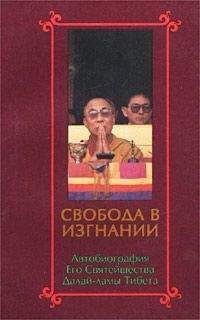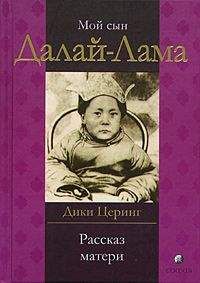Весной 1958 года я переехал в новый дворец в Норбулингке, так как существовала традиция, по которой каждый последующий Далай Лама закладывал, свое собственное здание в "Драгоценном Парке". Подобно другим домам мой собственный был совсем небольшим и предназначался для использования не более, чем в качестве моего личного жилого помещения. Однако что его все-таки отличало, это современные удобства и устройства, которыми он был оборудован. У меня появилась современная железная кровать вместо старого деревянного ящика, ванная с водопроводом и канализацией. Были установлены также батареи водяного отопления, но, к сожалению, мое пребывание в Норбулингке оказалось прервано прежде, чем оно стало работать должным образом. Везде было проведено электрическое освещение, на обоих этажах. В моей комнате для приемов имелись кресла и столы вместо традиционных тибетских подушек (для удобства иностранных посетителей), а также большой радиоприемник, насколько я помню, подарок индийского правительства. Это был очень хороший дом. Снаружи располагался небольшой пруд и красивые альпийские горки, а также сад, за посадкой которого я следил лично. В Лхасе все росло хорошо, и вскоре он ярко зазеленел. В общем, я был очень счастлив здесь, но недолго.
Вооруженная борьба, охватившая Кхам и Амдо, а теперь и Центральный Тибет, продолжала набирать силу. К началу лета несколько десятков тысяч борцов за свободу объединили отряды и совершали теперь рейды все ближе и ближе к Лхасе несмотря на свое скудное обеспечение амуницией и легким оружием. Кое-что из этого было захвачено у китайцев, кое-что получено в результате налета на тибетский правительственный склад амуниции около Ташилхунло, а небольшая часть оказалась материализовавшейся в должное время любезностью ЦРУ, но все же они были безнадежно плохо экипированы.
Когда я ушел в изгнание, то услышал рассказ о том, как сбрасывались в Тибет с самолетов оружие и деньги. Однако эти вылеты принесли чуть ли не больше вреда тибетцам, чем китайским вооруженным силам. Вследствие того, что американцы вовсе не желали, чтобы стало известно, откуда исходит помощь, они побеспокоились о том, чтобы не снабжать тибетцев оружием, произведенным в США. Вместо него они сбросили только несколько плохо сделанных базук и небольшое количество старых британских винтовок, некогда бывших в ходу по всей Индии и Пакистану, и поэтому в случае захвата их происхождение не могло быть определено. Однако повреждения, которые они получили при сбрасывании с самолета, делали их почти бесполезными.
Естественно, я никогда не видел ни единого сражения, но в семидесятых годах старый лама, который недавно бежал из Тибета, рассказал о том, как однажды наблюдал из своей кельи, расположенной высоко в горах в отдаленной части Амдо, одну стычку. Небольшой отряд из шести всадников атаковал лагерь НОАК, который превышал их силы в сотни раз, прямо возле излучины реки. Результатом был полный хаос. Китайцы впали в панику и начали, ничего не соображая, стрелять во всех направлениях, убив много собственных солдат. Между тем эти всадники, которые ушли, переправились через реку, вернулись назад, приблизившись с другой стороны, и снова атаковали с фланга, а затем скрылись в горах. Мне было очень приятно слышать о такой храбрости.
Неизбежный момент наступил, наконец, во второй половине 1958 года, когда члены "Чуши Гангдруг", союза борцов за свободу, окружили крупный гарнизон в Цетханге, не далее чем в двух днях пути от стен самой Лхасы. В это время все чаще и чаще я начал лицезреть генерала Тан Куан-сэня. Он выглядел как крестьянин, у него были желтые зубы и коротко остриженные волосы. Теперь он стал приходить почти каждую неделю в сопровождении чрезвычайно заносчивого переводчика для того, чтобы убеждать, улещать и оскорблять меня. Раньше эти визиты были не чаще, чем раз в месяц. В результате мне опротивела новая комната для приемов в Норбулингке. Сам ее воздух был насыщен той напряженностью, которая сопровождала наши беседы, и я стал бояться ходить туда.
Для начала генерал потребовал, чтобы я мобилизовал тибетскую армию против "бунтовщиков". Он сказал, что мой долг сделать это, и пришел в ярость, когда я высказал, что если так сделаю, он может быть уверен, солдаты воспримут это как удобный случай перейти на сторону борцов за свободу. После этого он только бранился на неблагодарность тибетцев и высказывался в том духе, что все это для нас плохо кончится. Наконец генерал назвал Такцера Ринпоче и Гьело Тхондупа, а также нескольких моих бывших сотрудников (все они были за пределами страны) преступниками и приказал мне лишить их тибетского гражданства. Что я и сделал, полагая, что, во-первых, они находятся за границей и поэтому в безопасности, а, во-вторых, что в данное время лучше согласиться, чем провоцировать китайцев на открытую конфронтацию с самой Лхасой. Я хотел избежать этого почти любыми средствами. Я понимал, что если в борьбу включится население Лхасы, то не будет никакой надежды на восстановление мира.
Между тем борцы за свободу совершенно не были склонны к компромиссу. Они даже пытались заручиться моей поддержкой своих действий. Увы, я не мог поддержать их, несмотря на то, что как человек молодой и патриот к тому же, я был склонен тогда к этому. У меня вес еще оставалась надежда на приближающийся визит Неру, но в последний момент китайские власти отменили его. Генерал Тань Куан-сэнь заявил, что не может гарантировать безопасности индийского премьер-министра, и приглашение должно быть снято. Я понял, что это катастрофа.
В конце лета 1958 года я поехал в монастырь Дрейпунг и затем в монастырь Сера для того, чтобы пройти первую часть моего последнего монашеского экзамена. Она заключалась в продолжающемся несколько дней диспуте с самыми выдающимися учеными этих двух центров буддийской образованности. Первый день в Дрейпунге начался с чудесного гармоничного пения нескольких тысяч монахов в зале публичных собраний. Они пели хвалу Будде, его святым и последователям (многие из которых были индийскими мудрецами и учителями), и я растрогался до слез.
Перед тем как покинуть Дрейпунг, я совершил восхождение, как положено по традиции, на вершину самой высокой горы позади этого монастыря, с которой можно обозревать окрестности буквально на сотни миль. Она так высока, что даже для тибетцев здесь была опасность горной болезни, — но не слишком высока для красивых птиц, которые гнездятся высоко над плоскогорьем, и для обилия диких цветов, которые по-тибетски называются "упел". Эти живописные цветы были светло-голубыми, высокими и имели колючки, а по форме напоминали дельфиниум.