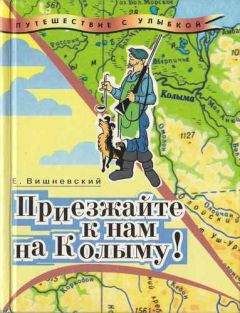Начать с того, что сперва мы просто потеряли Петра Степановича из виду. Где он? Куда подевался? Не погиб ли в первый период войны, признанный впоследствии неудачным? Для призыва на фронт Петр Степанович был, вроде бы, староват, но ведь погибали и в глубоком тылу, становившемся к тому же, по мере приближения к нему фронта, все менее глубоким, – от бомбежек и прочее. А, может быть, он стал подпольщиком или примкнул к партизанам и принял геройскую смерть в неравной борьбе с оккупантами?
В который раз, оказавшись в затруднении, мы кляли себя, что выбрали такого неусидчивого героя, тщеславно надеясь через него приобщиться, если повезет, к славной эпохе, выкованной несгибаемыми Петрами Степановичами. А что бы вы чувствовали на нашем месте? Все следы Петра Степановича испарились, а из документальных свидетельств военного лихолетья нам удалось найти единственное письмо, написанное на каком-то случайном, неровно оборванном листе бумаги, и то не самим Петром Степановичем, а его женой Катей и адресованное их старшему сыну. Вот оно.
Здравствуй, дорогой мой Старшенький!
Как мне жаль и обидно было так поздно узнать, как вы там сильно голодаете… В Капустяновке, говорят, а я сама, ты же знаешь, при всем моем желании, прийти не могу, чувствую себя довольно неважно. Завтра рано идет к Ване его мама. Наготовила тебе маленькую посылку, но не уверена, возьмет ли она ее. Быть может, в другой раз я смогу передать больше, а теперь прости за малое.
Но я думаю, что ты, мой Старшенький, знаешь, как велико мое желание помочь тебе, чем могу, только обстоятельства не дают мне исполнить это желание… Ты знаешь, ты понимаешь и простишь мне… Дитя мое! Крепись, не падай духом и верь, что ты будешь жить!!! Я хочу, чтобы ты верил в то, что мы снова увидимся!! Я хочу в это верить, я живу этой надеждой! Мою молитву не теряй, быть может, она тебя будет выручать в тяжелые минуты, но лучше пусть не будет в твоей жизни тяжелых минут. Пусть с тобой будут всегда удачи! Пусть с тобой будут бодрость, и вера, и надежда!
Если б ты знал, как я думаю все время о твоем настроении, состоянии здоровья и твоем положении в части. Найди минуту, чтобы черкнуть пару слов о себе. Боюсь и волнуюсь, что Бутенко может не найти тебя. Как хочется, чтобы ты хоть этот хлеб получил. Знаю, что табаку ты будешь больше рад, но… увы, я не могу набрать на этот раз. Я прошу Бутенко, чтобы она выменяла для тебя пшена или каких других круп за нитки. Старшенький мой, старайся писать письма, чтобы не потерять нам связь и надежды!
Быть может, ты еще будешь здесь, и я смогу передачу передать братиком твоим. Хотела сообщить Марусе, чтобы она порадовала тебя письмом, да не успела этого сделать. Но не ошибусь, если передам тебе от нее привет и самые лучшие пожелания.
Будь же здоровым и телом, и душой! Пусть тебя везде сопровождают удачи и счастье! Благословляю тебя, мое дитя! Да хранит тебя господь!
Я и братья твои тебя крепко-крепко целуем. Младший особенно часто вспоминает тебя, а Средний грустит о тебе. Прости мне все обиды, не вспоминай их, знай, что мама хочет тебе только счастья. Пусть же будет это всегда с тобой, мой дорогой, мой милый Старшенький! Целую крепко. Твоя мама.
Как это письмо оказалось в наших руках? Да потому что не попало в свое время в руки адресата. То ли Катя не успела передать его маме Ивана Бутенко, то ли та сама не добралась до своего сына, возвратилась, не солоно хлебавши, и вернула недоставленное письмо, – этого мы никогда не узнаем. А письмо мы отыскали в кипе старых бумаг – вот оно, перед нами. Но в нем, как видим, ничего не говорится о Петре Степановиче, как будто и не было его никогда, а речь ведь все-таки идет о главе семьи! Он-то куда запропастился? Уж не стал ли он и в самом деле невидимкой, так что и написать о нем невозможно?
Долго мучил нас этот вопрос, пока, наконец, в другой пачке бумаг, относящихся к совсем другому, абсолютно благополучному и мирному периоду, мы не обнаружили еще один листок, исписанный хорошо знакомым нам почерком. Скопируем его для читателей.
Собственноручное показание
Я, Петр Степанович К, проживающий в г. Задонецке, Харьковской области, по Красноармейской ул. № 9, будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, по существу заданных мне вопросов сообщаю следующее.
С 1938 года я работаю в Задонецкой свеклобазе в должности старшего агронома. В октябре месяце 1941 года, когда стали на город Задонецк налетать немецкие самолеты, я был занят отгрузкой свеклосемян, которых на свеклобазе имелось свыше 1000 центнеров, в глубь страны. До 15 октября 1942 года мне удалось отгрузить свыше 500 центнеров, а остальные не удалось отгрузить, так как 15 октября меня арестовали и посадили в Задонецкую тюрьму. Никто мне не делал в Задонецке никаких допросов, и никто мне не сказал, за что я арестован. Середина октября 1941 года в Задонецке была очень тревожной, и все были озабочены, занимались эвакуацией. Если бы меня не арестовали, то 17 октября я бы со своей семьей тоже эвакуировался бы, но поскольку меня постигло такое несчастье, семья вынуждена была остаться в Задонецке. Семья моя состояла (кроме меня) с жены и троих детей.
17 октября 1941 года группа арестованных, примерно в 30 человек, была под конвоем выведена из Задонецкой тюрьмы и пешим порядком отправилась в направлении г. Балашова Саратовской области. Шли пешком, с ночевками в пути, до Острогожска, а там посадили нас на платформу, и мы благополучно прибыли в город Балашов. В Балашовской тюрьме я пробыл 17 месяцев. За эти 17 месяцев мне было 4–5 допросов, на которых у меня допытывались: за что я арестован? Мне нечего было что-либо сказать по этому вопросу, так как я и сам не знал причины ареста. После одного из допросов меня посадили в одиночку, чтобы «я подумал»; в одиночке я просидел 62 суток. После чего был очередной допрос, но мне и тогда нечего было что-либо сказать о причине моего ареста, и меня снова перевели в общую камеру.
Вскоре ко мне подсадили подозрительного типа, который стал со мною вести явно провокационные разговоры антисоветского порядка. Не помню фамилию этого человека, так как с тех пор прошло около 16 лет, но его через 3–4 дня увели из нашей камеры. К моему удивлению, через несколько дней вдруг меня стали вызывать на допросы и очные ставки, где уже не интересовались вопросами повода к моему аресту, а возник вопрос об организации побега из тюрьмы. Если бы кто-либо проверил это обвинение, то сразу бы убедился в его абсурдности, так как я, особенно после одиночного заключения, был в таком физическом состоянии, что еле передвигался по камере, а когда человек в таком состоянии, то он не мог осуществить не только побега, но даже не мог думать об этом. Грязную роль в этом вопросе сыграли на очной ставке два старика с города Задонецка, тоже заключенные, Остольский Федор Петрович и Соломка Петр Алексеевич. Когда я спросил Соломку: «Что вас побудило наговорить на меня всяких гадостей?», он ответил: «Нам с Федором Петровичем обещали свободу, если дадим такие показания, какие от нас потребовали».