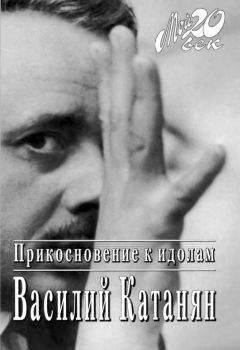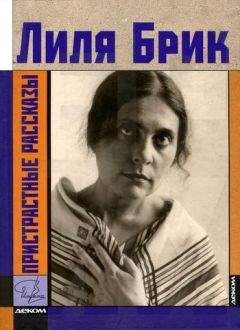«Досчатые нары, внушающая отвращение пища, грубые веревки, которых нужно щипать на паклю, пока пальцы не станут бесчувственными от боли, унизительные обязанности, которыми начинается и кончается день; резкие окрики, которых, как видно, требует обычай; отвратительная одежда, делающая страдания смешными; молчание, одиночество, стыд — все эти испытания мне надо перенести в область духовного.
В моей жизни было два поворотных момента — первый, когда отец послал меня учиться в Оксфорд («Читай, — отрывалась от книги ЛЮ, — во ВГИК»), второй — когда общество послало меня в тюрьму.
В тюрьме мне советовали забыть — кто я. То был пагубный совет. Лишь в сознании, кто я, находил я себе отраду. Теперь другие советуют мне забыть, что я был в тюрьме. Это такая же роковая ошибка».
В самом деле. Параджанов испытания «перенес в область духовного», сочиняя в тюрьме сценарии и истории, которые он держал в уме, подобно тому, как Анна Ахматова годами держала в голове «Реквием».
Насчет советов «забыть, что я был в тюрьме», которые он слышал, вернувшись из лагеря, он говорил: «Как я могу «забыть» и встать к аппарату после всего, что я там видел?» Но время, к счастью, сделало свое дело, и он снял еще три картины.
«По ту сторону тюремной стены, — продолжала читать Лиля Юрьевна, — стоят жалкие, покрытые сажей деревья. На них пробиваются почки, зеленые почки. Я хорошо знаю, что происходит с ними — они выражают себя».
Ну разве это не про Параджанова? Даже в тех условиях он не мог не выражать себя. И там на тюремном дворе он собирал нужные ему отбросы и засушивал жалкие цветы, чтобы склеить из них неповторимые коллажики — я их называю так уменьшительно, ибо они должны были уложиться в простой почтовый конверт, чтоб их можно было послать друзьям и родным. Теперь эти «зеленые почки» являются украшениями музеев. На металлической крышке от кефира он гвоздем выдавил и процарапал портрет Пушкина, который поначалу повеселил кучку уголовников, окружавших его, а позже, в дни, до которых
Сережа не дожил, Федерико Феллини отлил по его модели серебряную медаль, и ею награждается лучший фильм на фестивале в Римини!
Он был прачкой, сторожем, дворником, швеей — шил мешки для сахара.
Все годы несвободы он переписывался с родными и друзьями более или менее постоянно. Но с Лилей Брик — с первого до последнего дня. Она писала ему слова утешения, поддерживала в нем надежду, подробно сообщала об общих знакомых и писала о новостях в искусстве. Отвечая, он часто вместо подписи рисовал автопортрет с нимбом из колючей проволоки. Есть что-то бесконечно трогательное в его работах, посланных из лагеря. Это драгоценные реликвии. Конечно, Лиля Юрьевна и отец все бережно хранили, некоторые вещи окантовали и повесили рядом с самыми любимыми картинами.
Однажды, отправляя ему письмо, я спросил Лилю Юрьевну, что приписать от нее? «Напиши ему, что мы буквально грызем землю, но земля твердая». Так оно и было: усилия всех, кто боролся за его свободу, не приводили ни к чему. И тогда Лиля Юрьевна стала будоражить иностранцев через корреспондентов, с которыми была знакома. Появились статьи, главным образом во Франции. Они были вызваны ее энергией. Статьи повлекли за собой демонстрацию его фильмов. В Вашингтоне я видел рекламу «Саят-Новы»: «Фильм великого режиссера, который за решеткой».
Но главное — Лиля Юрьевна уговорила Луи Арагона приехать в Москву, куда он не ездил уже много лет, будучи возмущен многими нашими деяниями в области внешней и внутренней политики. Ради Параджанова Лиля Юрьевна просила Арагона принять орден Дружбы народов, которым его пытались умаслить, ибо иметь в оппозиции такую фигуру, как лауреат Международной Ленинской премии мира, сильно не устраивало ни Суслова, ни Брежнева. Лиля Юрьевна, преодолев недомогание и возраст, согласилась полететь в Париж на открытие выставки Маяковского, чтобы лично поговорить с Арагоном…
И вот Арагон прилетел в Москву, обратился с соответствующей просьбой к Брежневу, и в результате 30 декабря 1977 года Параджанова освободили на год раньше срока. И сделала это, в сущности, Л. Ю. Брик в свои восемьдесят шесть лет…
Но наконец он настал, этот долгожданный день. Сережа приехал в Москву и пронесся, как вихрь, по всем знакомым. С Лилей Юрьевной они виделись каждый день, не могли наговориться, не могли насмотреться.
Однажды к Лиле Юрьевне пришел фотограф Валерий Плотников (Сережа звал его «Блоу-ап»), Параджанов, дорвавшись, режиссировал: снял со стены и держал с моим отцом коврик, подаренный Лиле Юрьевне Маяковским, попросил ее надеть бальное платье, присланное Сен-Лораном. Снято было несколько вариантов — с ковриком и без. Фото часто публикуют, подписывая что вздумается. Например, в 1990 году в американском журнале «Арарат»: «Сергей Параджанов со своей мамой в Тбилиси»…
Еще о дружбе Сергея Параджанова с Лилей Брик. Будучи уже тяжелобольным, он прочитал «Воскресение Маяковского» Ю. Карабчиевского, талантливую и злобную книгу, опубликованную в журнале «Театр», и написал — по-моему, это последнее письмо в его жизни — в редакцию. (Копию он послал в архив Л. Ю. Брик в ЦГАЛИ.) Письмо Параджанова ставит все на свои места в истории взаимоотношений этих двух незаурядных личностей, разбивает инсинуации и ложь Карабчневского, которую тот с легкостью Хлестакова позволил себе по отношению к этим двум людям.
«Должен сказать, что с отвращением прочитал в Вашем журнале опус Карабчиевского. Поскольку в главе «Любовь» он позволил себе сплошные выдумки — о чем я могу судить и как действующее лицо, и как свидетель, — то эта желтая беллетристика заставляет усомниться и во всем остальном. Хотя имя и не названо, все легко узнали меня. Удивительно, что никто не удосужился связаться со мной, чтобы элементарно проверить факты. Только моя болезнь не позволяет подать в суд на Карабчиевского за клевету на наши отношения с Л. Ю. Брик.
Лиля Юрьевна — самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба, — никогда не была влюблена в меня, и объяснять ее смерть «неразделенной любовью» — значит, безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. Известно (неоднократно напечатано), что она тяжело болела, страдала перед смертью и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. Как же можно о смерти и человеческом страдании писать (и печатать!) такие пошлости!
Наши отношения всегда были чисто дружеские. Так же она дружила с Щедриным, Вознесенским, Плисецкой, Смеховым, Глазковым, Самойловой и другими моими сверстниками. Что ни абзац — то неправда: не было никаких специальных платьев для моей встречи, никаких «браслетов и колец», которые якобы коллекционировала Л.Ю., не существует фотографии, так подробно описанной, и т. д. и т. д. и т. д… Не много ли «и т. д.» для одной небольшой главки? Представляю, сколько таких неточностей во всех остальных. Но там речь об ушедших людях, и никто не может уличить автора в подтасовках и убогой фантазии, которыми насыщена и упомянутая мною глава.