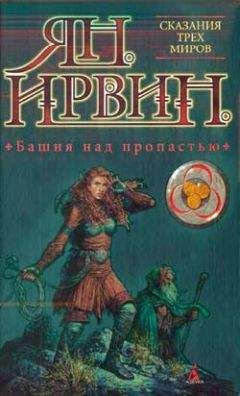коммунизма, и от фашизма, и от монархии, и от западной демократии.
Движение распространилось во Франции вместе с русской эмиграцией. Лев, переехав из Германии во Францию в 1926 году, поселился с женой и детьми в парижском пригороде, где стал одним из самых активных участников того, что называли «Кламарским кружком» – объединявшим эмигрантов с Востока, пламенных сторонников евразийства.
В том же 1926-м мы с Генри покинули Софию, собираясь устроиться в Лондоне. Я подыскивала дом, а Генри, только что уволившийся из Форин-офис, – работу. В ту короткую поездку в Париж, когда мне случилось выступить в театре де ля Порт Сен-Мартен в «Мадемуазель де Мопен», небольшом балете на музыку Рейнальдо Ана, я побывала на конференции, устроенной моим братом. В моей розовой шкатулочке я обнаружила старую записную книжку, а в ней – несколько сделанных на лету заметок.
Конференция проходила в доме номер одиннадцать на Магдебургской улице, в Шестнадцатом округе Парижа. Послушать Льва пришли более сотни человек. Речь шла о православии, глубоко религиозном характере русского народа, большевистской революции, которая не более чем один эпизод в становлении Великой России, о близком пришествии постсоветской эры… Я, как и все, была ослеплена харизмой брата, ясностью его языка и уместностью высказываний, его визионерским красноречием, но при этом, слушая его столь продуманное выступление перед публикой, чувствовала и его безумный, безрассудный порыв: это была любовь к России, ностальгия по России и тайное, непреодолимое желание – вернуться туда во что бы то ни стало.
При этом Лев не был несчастлив во Франции. Он вполне достойно зарабатывал чтением лекций. Участвовал в коллоквиумах, проводил конференции. Его дочери учились в Париже. Старшая, Ирина, родившаяся в 1906-м, станет блестящим специалистом по французскому языку и литературе. Они поездят по стране, обретут друзей, проведут лето всей семьей в Руане на атлантическом побережье, но в плоде заведется червячок. Под влиянием Сергея Эфрона, тоже участника евразийского движения и мужа поэтессы Марины Цветаевой, Лев даст согласие на встречу с дипломатами из посольства СССР в Париже, чтобы обсудить возможное соглашение на основе компромисса между строгим марксистско-ленинским материализмом в Москве и того, что Эфрон называл «идеализмом» моего брата. Не исключалась в перспективе и возможность сотрудничества.
С того самого времени все мои сведения становятся обрывочными и неточными, и обо всем, что за этим последовало, я ожидаю услышать от Ивана Ивановича.
Выше я обмолвилась о том, какое отталкивающее впечатление он произвел на меня на первый взгляд, но потом я переменила первоначальное мнение, и мне даже стало стыдно. И все-таки я сохранила свое описание – ради объективности и искренности.
Пока шел наш разговор – а мы говорили по-русски, – я постепенно забывала о неопрятном облике Ивана Ивановича, о его занудном голосе и о пропитавшем всю его одежду тошнотворном запахе.
Биконсфилд, 20 апреля 1969, к вечеру
– Со всей ответственностью могу вам сказать, Тамара Платоновна, – я уверен, что посольство Советского Союза просто расставляло ловушку Льву, чтобы заставить его вернуться в страну…
– И затем устранить?
Повисло тяжелое молчание.
– Во всяком случае, – продолжает Иван Иванович, – любая надежда на общую точку соприкосновения была тщетной. Для Льва Платоновича история была не логически связной цепью причин и следствий, как для Гегеля и Маркса, а суммой личных историй каждого индивидуума. Поэтому она никоим образом не могла стать той же наукой, какой была для коммунистов. Лев не верил в «смысл истории», в прогресс человечества. Если выражаться попроще, то он, наоборот, полагал, что за каждым шагом вперед следует шаг назад, чаще всего непредвиденный, и человек быстро видит, что сотворенное им устарело и отжило свой век. И самое главное – как можно убедить коммунистов-атеистов, для которых религия есть опиум для народа, что именно Христос является главной личностью в истории?
Иван Иванович сидит перед остывающей чашкой чая, сложив руки на фуражке, лежащей у него на коленях. Если ему случается замолчать, подыскивая нужное слово, – он неловкими пальцами теребит серую ткань. Я замечаю, что на левой руке у него нет большого пальца. Иногда он встречается со мной взглядом, и я читаю в нем скорбное опустошение, смутную муку, пронизывающую все его существо, как и запах бедности, – муку которую невозможно исцелить.
– Как вам известно, в Париже Лев Платонович оставался недолго…
– Он ведь ходатайствовал о том, чтобы преподавать в Оксфорде, не так ли?
– Он выбрал Каунас…
Я знала об этом – но не смогла невольно не перебить собеседника. Как обычно, я подумала, что Лев всегда поступал вопреки собственным интересам.
– Но почему? Вы можете объяснить мне, Иван Иванович, почему мой брат предпочел Великобритании такую крошечную страну, как Литва? И почему же тогда не столица – Вильнюс, а Каунас?
Эмильенна растерянно поглядывает на меня. Не в моих привычках так терять самообладание. Она послушно сидит возле магнитофона – но на почтительном расстоянии от Ивана Ивановича, чей запах ей, должно быть, столь же неприятен, как и мне. Этот магнитофон, подаренный мне друзьями на восьмидесятилетие, мы включили по моей просьбе и с согласия Ивана Ивановича, которого я посвятила в свой план написать воспоминания. С ним не так уж легко обращаться – вот Эмильенна и предложила себя в ассистентки. Время от времени мы просим ее сделать паузу в записи, и она охотно это исполняет. Она сидит, опустив глазки; по-русски она не знает ни слова, но с явным удовольствием позволяет укачивать себя этим мелодичным щебетом, для нее таким загадочным.
– Каунас всегда был крупным университетским центром, – отвечает Иван Иванович, – особенно в дисциплине Льва Платоновича. Когда ваш брат поселился там в двадцать восьмом году, Литва была независимой уже десять лет, и он процветал там в должности декана кафедры современной истории в университете Витовта Великого. И я учился там у него. Вот так я с ним и познакомился. Потом я обрел свою стезю в изучении иностранных языков и стал переводчиком, но другие студенты Льва Платоновича продолжали исследования, в которых отличились. Знаменитый лингвист Греймас однажды сказал мне о вашем брате, что он был самым изысканным и искренним из всех ученых, каких он только знал.
На этих словах, так живо и ясно обрисовавших портрет моего брата, я едва не разрыдалась, однако взгляд Ивана Ивановича, а еще более того – Эмильенны, удержали меня от такого проявления чувств. Я знала, что первые шаги были нелегкими. Лев оставил семью в Кламаре. Особенно ему не хватало дочерей – Ирины, Марианны и последней, Сюзанны, родившейся в 1920-м. Он много работал и лишь изредка мог вырвать кусочек свободы, чтобы съездить и навестить их. Зато мне