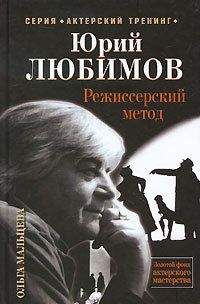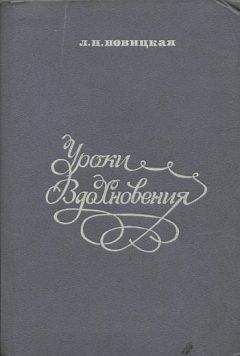Много говорят о формах работы режиссера с композитором. Предполагается, что режиссер должен все время влиять на автора оперы, участвовать в творческом процессе создания им музыкальной драматургии. Со стороны это выглядит убедительным, дает основание полагать, что именно такое произведение, созданное в сотворчестве и предназначенное для данного театра, ждет удача. Опыт, однако, показывает, что влияние режиссера на композитора может быть благоприятным только в том случае, если это влияние «вообще», то есть влияние общественное, эстетическое, вкусовое, даже тематическое. Но писать оперу композитор должен самостоятельно.
Почему? Да потому, что в оперном произведении огромную роль играет внутренняя логика музыкальной драматургии — сложная и тонкая система взаимоотношений, взаимовлияний театральных и музыкальных элементов. Музыка как искусство, развертывающееся во времени, имеет свою логику. Но в опере, будучи средством выражения драмы, ее логика становится зависимой от конкретных событий, от проявления на каждом этапе развития драмы особенностей человеческих характеров. Причем не только во внешнем поведении, но и в глубинной душевной сфере. Здесь должны проявляться особые для каждого персонажа свойства внутреннего восприятия конкретных явлений жизни, событий, обстоятельств.
Драма рождает музыку, раскрывающую ее суть, подробности развития действия, динамику событий. Музыка выражает драму своими способами, только ей присущими и, выражая, преображает ее. Это очень сложное переплетение обстоятельств, взаимодействие различных компонентов, взаимосвязей. Достаточно нарушить в каком-то звене этой системы образного мышления один-два контакта, как прекращается деятельность всего художественного организма.
Режиссер, заботясь о логике действия, его энергии, не замечает, не видит, не слышит тех особых созвучий, которые слышит композитор. Это естественно, поскольку сталкиваются художники различной природы художественного мышления. (Собака слышит и чует то, что недоступно человеку, и в каких-то случаях, например, при поимке преступника или поисках пропавшего, человек вверяется чутью собаки.) Поэтому в момент сочинительства оперы режиссер должен оставить композитора наедине с его трудом, его поисками выражения конкретных театральных событий в музыке, должен верить в правильность и органичность процесса, который определяется художественной индивидуальностью автора оперы.
Потом композитор вверит свое сочинение режиссеру. И будет удивляться, почему режиссер взял то или иное решение сцены, не только точно отражающее его собственный замысел, но и вскрывающее и обнаруживающее то, что у автора было лишь в подсознании. Такие творческие взаимоотношения композитора и режиссера я считаю правильными, даже идеальными. Вмешательство режиссера в процесс создания оперы так же вредно и бессмысленно, как наивно и смешно бесцеремонное вмешательство автора в постановку его оперы.
Я в зрелые годы творчества никогда ничего не говорил «под руку» композитору, не требовал от него писать так, а не иначе, как никогда ни один композитор, оперы которых я ставил, не вмешивался в мое дело, в мое понимание того, что он написал. Ни один и никогда!
На «режиссерском» этапе работы над оперой надо стремиться добиваться точности и четкости общей концепции. Только тогда и возможно единство частностей. Нет ничего хуже расплывчатости в понимании режиссером оперной партитуры. Только из-за неумения проникнуть в авторский текст и возникает стремление к украшательству, к заполнению пустот сценическими пассажами, вымышленными, а не рожденными в результате творческого освоения произведения. Более всего при первом опыте своего сотрудничества с «живым классиком» (именно таким казался мне Сергей Сергеевич Прокофьев 40-х годов) я гордился признанием этой особенности моей работы.
При первой постановке нового сочинения композитора режиссер должен чувствовать свою ответственность за сценическую судьбу произведения. Провал постановки популярного оперного творения есть лишь эпизод, неприятный, но эпизод его сценической биографии. Если же режиссер ставит новое произведение, он представляет его зрителю, и от успеха постановки зависит во многом сценическое будущее оперы. Поэтому мнение автора, не всегда высказанное, часто лишь ощутимое, ловишь, как луч маяка в темном море.
В «Носе» была рискованная мизансцена, которая могла не понравиться Шостаковичу. Один раз на репетиции он ее «просмотрел», не заметил. Уже хорошо, что она его не оскорбила, значит, возможна! Во второй раз Дмитрий Дмитриевич, оторвавшись от оркестра и партитуры, внимательно ее ждал, но ничего не сказал. В третий раз тихонько и лукаво подсказал мне развитие этой мизансцены. Значит, она не только принята, но и вызвала поток воображения! Что может быть лучше? Хотя прямого комплимента и прямой поддержки не было, было ясно, что мизансцена нравится, что она выражает суть данного фрагмента оперы.
В «Войне и мире» финал Шевардинского сражения мною был поставлен совсем не по ремаркам Прокофьева. «Ах, вот оно как!» — сказал Сергей Сергеевич, как будто увидел особую комбинацию на шахматной доске. Ни слова «интересно», «неожиданно», ни тем более «замечательно» сказано не было, но было ясно — мизансцена принята как естественная данность и обсуждать ее нет смысла. Она стала органической частью спектакля.
Рассказал я не без внутреннего трепета Игорю Федоровичу Стравинскому, что ставил его оперу «Соловей» со студентами ГИТИСа. «Ах, можно было и не ставить!» В неожиданной реакции композитора я услышал упрек, что не поставил его оперу «Карьера мота»[38], о которой мы с Игорем Федоровичем говорили раньше и которая была ему дорога. К «Карьере» он относился в то время с большой ревностью.
«Я об этом думал, только не мог выразить», — с удивлением сказал мне Александр Николаевич Холминов об одном из эпизодов постановки его «Двенадцатой серии» в Камерном театре. И, очевидно, тут не было совпадения, просто задуманное композитором передалось режиссеру «по телеграфу» музыкальной драматургии. И не «в лоб», а опосредованно, «таинственными» каналами, которые делают искусство искусством. Эти каналы нельзя перекрывать практикой навязывания «конструктивных предложений» и всякого рода «влияний».
Таким образом, я не очень верю в эффективность «договоренностей», обсуждений, долгих разговоров между композитором и режиссером. Гораздо большую роль играют тут полунамек, иная невзначай брошенная фраза, усмешка.
Когда Родион Константинович Щедрин сочинял «Мертвые души», я об этом узнавал из его полунамеков, улыбок и случайно брошенных фраз его жены. Но настало время, и композитор пригласил меня к себе, чтобы в первый раз сыграть оперу с начала до конца. Тут же мы стали намечать кандидатуры дирижера, художника, артистов. Некоторые фамилии были названы сразу, другие потребовали долгих обсуждений, взвешивания. Это началась уже история постановки произведения. Из партитуры, как бабочка из кокона, уже возникал пока внешний, организационно-постановочный принцип.