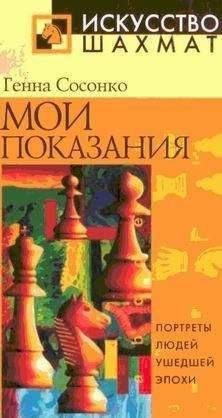«Сами, девки, знаете, чем заманиваете», — сообщал Миша, слишком оптимистично жертвуя коня на g7. Если же ресурсов атаки не хватало, приговаривал, глядя на поднимающийся флажок на часах Маэстро: «Ничего страшного, сейчас мы будем делать ему завальнюк».
«Подожди, подожди, я тебе сейчас сделаю савальнюк», — отвечал Маэстро, с особой энергией делая ходы, казавшиеся ему наиболее сильными. Если же стрелка на его часах все же падала, Миша щелкал немалых размеров ногтем мизинца по стеклу циферблата часов Маэстро или объявлял: «Покойничка знали лично!», легкими прикосновениями вверх и вниз отряхая ладони. Маэстро, понимая, что сердиться было бы глупо, разводил руками и, поворачиваясь ко мне, говорил с улыбкой: «Ну, что ты с ним будешь делать...» После игры он иногда пытался пустить разговор по серьезному руслу: «Мишенька, мне вчера опять звонили из Спорткомитета и спрашивали, когда же ты...» — «Знаю, знаю, — отвечал Миша, - на следующей неделе зайду обязательно». — «Да, но ведь ты так говорил еще на прошлой неделе». — «На днях зайду непременно, а вы посмотрите лучше, какую прелестную идею в испанке мы сегодня обнаружили...»
Иногда мы уходили с Маэстро вместе, и от улицы Горького, где жил Таль, поворачивали на Лачплесиса, а потом — направо на улицу Ленина, которая во время войны называлась, разумеется, Адольф Гит-лерштрассе, а ныне, сбросив с себя оба названия, пытается укрепиться в своем старом: улица Свободы. Речь держал Маэстро, обычно он жаловался на Мишу, его образ жизни, непрактичность, беззаботность, безалаберность. Впрочем, скоро он переходил на текущие заботы, а их было немало. Энергия всегда бурлила в нем, и планов у него было множество: подготовиться к традиционному матчу с Литвой и Эстонией, обязать Мишу регулярно заниматься с молодыми и в первую очередь с талантливым Витолиньшем, подготовить редакцию новой книги на латышском языке, оформить через Москву договор о переводе другой книги на испанский. Не говоря уже о многих насущных делах: закончить ремонт клуба, наладить производство шахматной атрибутики и магнитных шахмат, арендовать маленький автобусик для поездок в соседнюю Литву, где цены на продукты много ниже местных. Коричневый, отличной выделки кожаный портфель, который всегда был при нем, покачивался в такт его упругому шагу. На улице с ним нередко здоровались, Маэстро был заметной фигурой в Риге, что и говорить - тренер национального героя.
Когда мы доходили до перекрестка, Маэстро предлагал: «Может быть, зайдешь ко мне на минуточку?» Шахматный клуб в самом центре Риги был его особой гордостью. Мы поднимались на третий этаж, в клубе еще пахло свежей краской, но вдоль стены уже протянулся транспарант: «Шахматы — это гимнастика ума. В.ИЛенин». Этот лозунг можно было встретить тогда почти в каждом клубе, хотя подобного высказывания не найти даже в полном собрании сочинений вождя. Неудивительно: его придумал известный шахматный деятель Яков Герасимович Рохлин, умерший несколько лет тому назад. Поскольку Ленин действительно любил шахматы, играл в них в сибирской ссылке и в годы эмиграции, проверять подлинность цитаты никто не удосужился.. Как бы то ни было, находка была замечательная, звучала фраза очень по-ленински и немало способствовала развитию шахмат в стране.
«Заходи, заходи, — приглашал Маэстро, распахивая двери директорского кабинета, — располагайся...» - «Что же вы такое повесили, Маэстро? Мало вам надписи при входе, так теперь и здесь», — говорил я, показывая глазами на висевший над его креслом барельеф Ленина, сделанный из дерева, и, надо признать, весьма искусно. Маэстро нравились мои ремарки, хитрая улыбка появлялась на его лице, но он, хотя мы в кабинете были только вдвоем, вздыхал с притворным осуждением: «Ну что с него взять, одно слово — ленинградская шпана». И меняя тему разговора: «Геня, что ты делаешь сегодня вечером?» Он всегда называл меня так, сильно смягчая последнюю гласную, что придавало имени почти ласкательный оттенок. «Ах, с Мишей в ресторан? Оригинально, оригинально, можно подумать, что вчера вы были в библиотеке». И Маэстро сокрушенно качал головой...
Ему было тогда пятьдесят два года, и выглядел он очень импозантно: выше среднего роста, статная фигура, быть может, чуть полноватый, но всегда подтянутый, всегда в костюме и при галстуке. Крупное лицо, высокий лоб, зачесанные назад волосы с легкой проседью, выдающийся, с заметной горбинкой нос, полные губы - он напоминал какое-то редкое животное. Улыбка, часто появлявшаяся на лице, полностью преображала его. Хитринка, спрятанная в широко расставленных глазах, постепенно захватывала всё лицо, и Маэстро превращался в ученика немецкой рижской гимназии Алика Кобленца.
Он родился в Риге 3 сентября 1916 года в зажиточной еврейской семье. Дома говорили на идише, но образование Кобленц получил классическое, и немецкий был его самым сильным языком. Отец, лесопромышленник, хотел, конечно, чтобы сын после окончания гимназии продолжал учебу и потом, кто знает, перенял дело, но у Алика на уме уже было другое: в двенадцать лет он случайно обнаружил на книжной полке шахматный учебник Дюфреня.
Разумеется, когда он решил посвятить жизнь шахматам, отец был против. «Он поведал мне о переживаниях своего знакомого лесопромышленника Исайи Нимцовича, с которым встречался раньше на рижской бирже, - вспоминал позднее Маэстро. - Его сын Арон просиживал целыми днями в биржевом кафе, играя с любителями на ставку. Исайя послал сына учиться в Цюрихский университет, но тот забросил учебу, избрав путь шахматного профессионала. Мой отец слышал, как коллеги, стараясь уязвить старика, говорили ему при встрече: «Как это у вас, господин Нимцович, в уважаемой семье появился такой босяк?»
Действительно, решение молодого Кобленца сойти с накатанной дорожки и стать шахматным профессионалом было не менее рискованным, чем в наши дни. Уже в конце жизни Маэстро писал: «Запоминаются преграды, которые всегда встают на пути энтузиаста, предостерегающие голоса близких - не витай в облаках, а главное -советы избрать «солидную» жизненную дорогу. «Вы, молодой человек, собираетесь посвятить шахматам всю жизнь?» — спросил меня Милан Видмар на Олимпиаде в Варшаве. Получив молниеносный утвердительный ответ, он посмотрел на меня задумчивым взглядом и произнес: «Ну, смотрите...»
В основе решения свернуть с проторенного пути и самому определить свою судьбу у Кобленца лежала любовь к шахматам, к самому процессу игры. Но и не только. Свою первую шахматную книгу на латышском языке он начал писать, когда ему было девятнадцать лет, во время работы над последней его застала смерть.
Такое решение означало еще кое-что: независимость и свободу, поездки в разные страны Европы из маленькой Латвии. В августе 1935 года Кобленц стоял перед выбором: играть на турнире в Хельсинки или поехать корреспондентом рижской газеты в Амстердам, чтобы освещать матч между Алехиным и Эйве. Он, не колеблясь, выбрал Голландию, и это решение во многом определило его дальнейшую судьбу: он не только играл в турнирах, но и писал о шахматах.