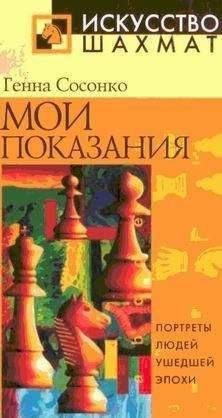Выиграл же турнир Карпов, опередивший Тиммана на два очка и вообще доминировавший тогда в шахматном мире. Было очевидно, что сотрудничество Фурмана с Карповым оказалось очень плодотворным для обоих. Сам Фурман сказал как-то: «При нем я предельно мобилизуюсь, играю лучше. Не тот авторитет у меня будет, если выступлю неудачно. Как потом стану ему давать советы»?
Однажды я присутствовал при их анализе отложенной позиции. Они были вместе уже десять лет и понимали друг друга с полуслова, но и в житейском смысле они притерлись друг к другу, как супруги после десятилетнего совместного проживания. Зайдя тогда в Бад-Лау-терберге к простудившемуся слегка Фурману, я застал у него Карпова.
Семен Абрамович у нас, - говорил он, глядя в пространство, — сначала чая горячего напьется с медом, потом на улицу выходит, на ветер, а теперь вот жалуется, что простудился. Было бы странно, если бы он не простудился.
Во-первых, я не сразу вышел, а обождал немного, во-вторых, я же, Толя, шарф шерстяной надел, — оправдывался Фурман.
Он думает, что если он шарф шерстяной надел... — продолжал Толя, и я снова спрашивал себя, кто же в действительности старший из них двоих.
Это был его последний турнир, и последний раз, когда я видел его.
Алла Фурман: «Может быть, если бы не было этой нервотрепки, бессонных ночей, если бы он больше следил за собой, не курил так отчаянно, всё могло бы и обойтись. Он жил так, как будто смерть его не касается, не допуская никаких разговоров о болезнях, что этого нельзя, того нельзя... Он делал всё, что ему нравится».
Бессознательно Сёма жил, следуя правилу Ницше, полагавшему, что секрет извлечения наибольшего удовольствия из существования прост: жить с наибольшим риском для жизни самой, жить на грани пропасти.
Анатолий Карпов: «За три недели до смерти я был у него в Меч-никовской больнице. Он шутил, смеялся, строил планы на матч с Корчным, какие дебюты играть, как и что... Он не знал тогда, что он безнадежен, да и я, признаться, тоже не знал».
Семен Абрамович Фурман умер 16 марта 1978 года. Несмотря на то, что жизнь его не получилась длинной, мне думается, что она удалась. Применимый к нему обычай древних фракийцев: после каждого счастливо прожитого дня класть белый камешек, а несчастливо — черный и после смерти подсчитывать, какой получилась жизнь, — дал бы очевидный результат. Белый цвет, так любимый им в шахматах, явно преобладал бы.
Матч Карпова с Корчным начался через несколько месяцев после его смерти. Без сомнения, Фурман понимал, побывав в Белграде на финальном матче претендентов и видя вблизи мощную игру Корчного, что легкого матча не будет. Как чувствовал бы он себя, когда на Корчного в Багио, помимо реальной и огромной силы его соперника, обрушилась вся мощь государственной машины, частью которой ему так или иначе предстояло бы стать?
Любитель информации, он наверняка знал, что в январе 1978 года четырнадцатилетний мальчик из Баку выиграл первую партию в жизни у гроссмейстера и свой первый взрослый турнир в Минске. Но он не мог знать, что этот мальчик спустя семь лет отберет у его ученика чемпионский титул и будет единолично править в шахматном королевстве в течение пятнадцати лет.
Как бы реагировал он на шахматы сегодняшнего дня, так не похожие на те, в которые играл он сам? Шахматы, в которых появилось так много нового, чего не было при нем, и которым придано ускорение, карающее неуверенность, но и раздумье в поисках лучшего хода. Шахматы, получившие огромную поддержку от компьютера, но и обретшие в его лице могущественного и безжалостного соперника, не прощающего минутную расслабленность или потерю концентрации. Шахматы, где в понятия подготовка, анализ да и в сам игровой процесс вкладывается совсем другой смысл, чем тот, который был при нем.
Какой совет он дал бы Карпову сейчас? Стараться не попадать в цейтнот? Поменьше тратить времени на марки, из-за чего Сёма ворчал на своего ученика и в лучшие годы? Увеличить объем тренировок, больше доверяя компьютеру? Или просто повторил бы слова польского мастера Пшепюрки: «Почему я играю хуже? Потому, что старею. Молодые, на арену!»
Июль 1999
В конце 50-х началась эра Михаила Таля: сначала выигрыши чемпионатов Советского Союза 1957-58 годов, потом межзонального турнира, турнира претендентов и, наконец, победа над Ботвинником в матче на первенство мира в 1960 году. Постоянным тренером Таля и его секундантом на всех этих соревнованиях был Александр Кобленц.
Впервые я увидел его ранней весной 1968 года, когда приехал в Ригу по приглашению Таля помочь ему в подготовке к четвертьфинальному матчу с Глигоричем. После этого я бывал в Риге неоднократно и каждый раз, разумеется, виделся с Кобленцем. Официально он был тогда еще тренером Миши, хотя после талевского пика в 1960 году прошло восемь лет и отношения между ними уже не были столь безоблачными. К моему приезду Кобленц отнесся настороженно. Скорее он рассматривал его как очередное Мишино чудачество, который и так в последнее время отбился от рук. Несколько лет, проведенных им в Москве после проигрыша матча-реванша Ботвиннику, не прошли даром: пьет ужасно, курит несколько пачек в день, очередная новая подруга, вот еще и этот подозрительный камень в почках, требующий регулярного приезда «скорой помощи» и обязательной инъекции морфия. Теперь еще какой-то неизвестный молодой мастер из Ленинграда. Короче говоря, ученик совершенно не слушает своего старого тренера, который начал заниматься с ним, когда Мише было еще двенадцать лет.
Скоро, впрочем, когда мы познакомились ближе, Кобленц понял, что я совсем не пытаюсь встать между ним и Талем, и между нами установились раз и навсегда теплые, дружеские отношения.
Миша всегда называл его — Маэстро, через некоторое время так же стал называть его и я. Обычно Маэстро приходил к Мише домой, где мы работали, часам к трем, спрашивал, что мы смотрели сегодня, иногда сам принимал участие в анализе, но чаще его появление означало игру блиц на высадку. Это был, конечно, эвфемизм, потому что в подавляющем большинстве случаев менялись мы с Кобленцем. «Ведь, правда, интересантный ход, Маэстро?» — спрашивал Миша, осуществляя необычный маневр в дебюте и лукаво поглядывая на меня. «Интересантный, интересантный», — отвечал Маэстро, чувствуя какой-то подвох, но не зная, в чем он заключается. Родным языком его был немецкий, хотя по-русски он говорил очень хорошо, разве что с легким акцентом. Проскальзывавшие иногда ошибки в словах приходились на похожие в немецком, что, как известно, создает именно из-за этой внешней похожести особую трудность. Изредка он переспрашивал: «Пожалуйста?», что является дословным переводом с немецкого «Bitte?» и чего никогда не скажет человек, родным языком которого является русский.