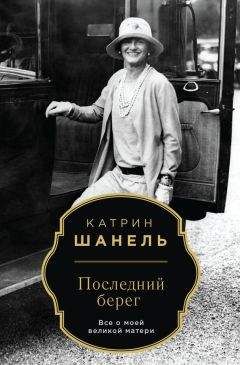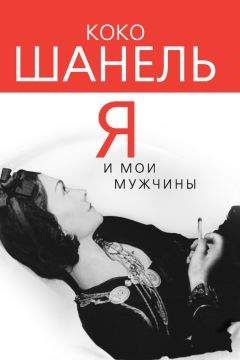Через некоторое время в недрах комнаты прозвучал звонок, и туда прорысил коридорный мальчик. Потом вышли трое: мальчик с патефоном под мышкой, моя мать, разрумянившаяся, и генерал с застегнутым воротничком, сверкавший победным взором. Вся процессия отправилась в правое крыло здания. Шанель обернулась и поманила меня, как собачонку:
— Катрин, чего же ты ждешь?
И я, к стыду своему, пошла.
Нашу процессию встретил администратор. Теперь он был куда любезнее. Непрестанно кланяясь генералу, он сообщил, что мадемуазель может занять номер из двух комнат, с видом на улицу Камбон. Номера тесноваты, но нам — ха-ха! — всем приходится потесниться в эти нелегкие времена. Зато там прекрасная ванная, и мадемуазель сможет из окна наблюдать за своим бутиком. Не правда ли, весомое преимущество?
Я не назвала бы номер очень тесным, но Шанель привыкла жить в других условиях, и я ждала, что она возмутится. Но мама только с улыбкой проводила генерала и принялась распаковывать свои сундуки, которые словно по волшебству появились в отведенных ей комнатах.
— Ты больше ничего не предпримешь? — спросила я.
— Что же еще? Я отстояла свое права жить в отеле. И этот проныра верно сказал — эти комнаты гораздо более удобны в смысле работы. На войне как на войне, моя дорогая. Знаешь, этот генерал, несомненно, культурный человек, несмотря на то, что слушает Вагнера. И он нашего круга. Знаешь, его жена и дочь в восторге от моих костюмов, он сам так сказал, и хотят носить только их. И душатся только моими духами! Я обещала ему собрать посылку на родину.
Я выслушала ее молча.
— Неужели тебе все равно? Нет, нет, я не прерывала тебя, и ты теперь не прерывай меня. Неужели тебе все равно? Они — нацисты, они — завоеватели, а те, кто согласился с ними, — преступники. Мы должны противостоять им или… Или бежать, если нет сил на борьбу.
— Бежать? Но куда?
— Хотя бы в Америку.
— Война скоро доберется и туда. И потом, там все так дорого, ах, как все дорого! Деньги будут таять на глазах, а теперь, когда я закрыла предприятие, мне приходится экономить. Знаешь, я остановила выплаты пособия своим братцам. Я достаточно была для них дойной коровой, теперь пусть попробуют пожить самостоятельно.
— Ты отучила их от труда, заваливая чеками и подарками, а теперь хочешь, чтобы они начали самостоятельную жизнь?
— Я ведь не имею в виду, что им придется спускаться в каменоломни. Они вольны распоряжаться теми средствами, которые приобрели за эти годы. Предприятия, недвижимость, акции…
— Сейчас, во время оккупации?
Она только отмахнулась:
— Я не хочу ничего слушать! У меня больше нет денег, чтобы содержать их, и я прекратила это делать, вот и все. И я хочу, чтобы ты поняла: сотрудничать с новыми властями лучше, чем им сопротивляться. Даже в Библии написано, что нет власти не от Бога, любой священник тебе это скажет. А ты была бы рада, если бы я пристрелила этого моложавого генерала, так?
Примерно так я и думала, но ей не сказала ни слова.
— И потом, здесь мои друзья! Хороша бы я была, оставив их тут, а сама уехала бы развлекаться в Америку. Знаешь, я хочу возродить свой салон. Против этого ты не можешь возражать. Собирать весь цвет нации рядом с собой, когда страна стонет под игом захватчика, — что может быть благороднее.
— Но ты же скоро начнешь принимать у себя немцев?
— Нет, вот уж этого не произойдет! Ни за что!
Она в самом деле еще не пала так низко, чтобы принимать у себя оккупантов, и я вполне могла бывать у нее. По коридору «Ритца» я проходила, низко опустив голову, чтобы не встречаться взглядами с немецкими офицерами. Они считали француженок легкодоступными женщинами, и многие мои соотечественницы с удовольствием убеждали их в этом…
Но я могла бы не навещать Шанель. Ей и без меня было совсем неплохо. Цвет нации не давал ей скучать. Ее навещал Серж Лифарь, проживавший по соседству, в отеле «Кастилия» все на той же улице Камбон. Кокто, снимавший квартирку на улице Пале-Рояль. Порой появлялся даже монастырский затворник Реверди. Оккупация подняла мутную пену, и на волне вновь появились Серты. Эта непотопляемая парочка только что похоронила Русси, заболевшую туберкулезом.
— Они ее все-таки уморили? — поинтересовалась я.
— О да, и очень хитро. У бедняжки и в самом деле были плохие легкие и склонность к туберкулезу, от которого умерла ее мать. И вот Мися прикинулась, что волнуется за свое здоровье, и просила Русси сопровождать ее в санаторий. Движимая чувством вины, Русси сдалась и поехала.
— А там и сама подцепила злосчастную палочку — на предрасположенный организм и слабые легкие.
— Точно так, — подтвердила Шанель. — Она сгорела за два месяца, и Мися снова раскрыла объятия для блудного супруга…
Теперь Мися и Серт были вместе, но прежней любви между ними быть не могло. Злоупотребляющая наркотиками Мися перенесла инсульт, у нее почти закрылся один глаз, и теперь она похожа была на старую рыжеволосую ведьму. А обрюзгший Серт сделался похожим на римского патриция времен упадка. Отчего-то он вдруг сделался сказочно богат, и в его доме на улице Риволи закатывались чудовищные пиры. Однажды я попала на такой обед, и от меня не укрылось, что меню составлено самым искусным образом — подавалось все то, что именно в этот сезон трудно было достать. Свежие устрицы во льду, дичь, клубника — в то время, как Париж едва ли не голодал!
— Что это, откуда? — спрашивала я у матери.
Она отмахивалась:
— Не мое дело. В конце концов, приятно в такие времена найти место, где можно посидеть за хорошо накрытым столом и отведать тонкой кухни. Как меня утомила война!
Утомила! Словно она участвовала в Сопротивлении или испытывала лишения! О нет. Она жила в свое удовольствие. Серж Лифарь читал ей вслух книги, до которых у нее раньше не доходили руки. Кроме того, она пристрастилась к пению: в глубине души она никак не могла смириться с неудачами, постигшими ее на этом поприще сорок лет назад. Дирекции кабаре, отказывавших ей в контрактах, должны быть посрамлены!
«Уж не сошли ли она с ума от безделья?» — мелькнула у меня мысль, когда я услышала пронзительную арию Верди для бельканто. Мать брала уроки у каких-то оперных певичек, на первый взгляд — вышедших в тираж проституток. Эти две ведьмы бесперебойно пили все, что она им предлагала, воровали все, что попадалось им на глаза, утыкали окурками карнизы и ковер — а Шанель продолжала приглашать их и брать уроки.
У нее испортился характер. Она и раньше была горазда на колкое словцо, но теперь они сыпались с ее языка, как жабы и змеи в сказке братьев Гримм. Она стегала насмешками Мисю и Кокто. Меня не задевала — я не отвечала ей тем же, как эти двое. А какое удовольствие бить лежачего?