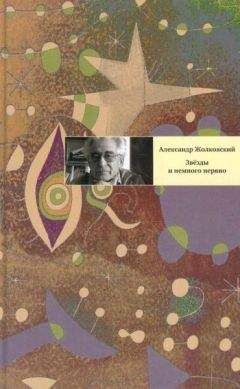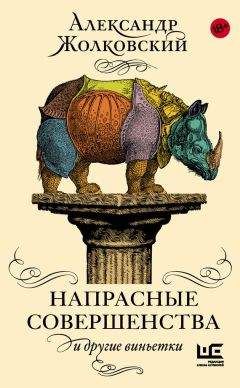Мне, с моими структурными установками и советскими пробелами в образовании, было трудновато следить за ходом его рассуждений. Я добросовестно слушал и, как мог, осмысливал услышанное. (Помогал роднящий деконструкцию со структурализмом скепсис по поводу любых идеологий, так же поддающихся формальному исчислению, как и риторический репертуар литературы.) К концу второй лекции я даже наскреб некоторое количество недоумений, которого могло бы хватить на каверзный вопрос, но вылезать с этим на публику не решился, боясь попасть впросак с произнесением фамилии Канта. После лекции я спросил Джорджа Гибиана, как он, для которого английский язык тоже не родной, обеспечивает фонетическое противопоставление Каnt/сunt («Кант/пизда»). Он ответил: «I dоn’t. I rub their noses right intо it» («А никак. Я прямо сую их туда носом»).
В следующий раз я все-таки собрался с духом и заветный вопрос задал. Ни своего вопроса, ни полученного ответа я не помню, но никогда не забуду формата, в котором была выдержана ответная реплика де Мана.
– Так, – сказал он, выслушав меня. – Вы… феноменолог. Следовательно, ответ должен выглядеть следующим образом…
Надо сказать, что, аттестовав меня как феноменолога, де Ман завысил мою скромную философскую квалификацию (правда, не без оснований – ввиду нашего со Щегловым упора на инварианты поэтических миров), и я некоторое время ходил гордый производством в следующий гуманитарный чин.
Так или иначе, шпаги были скрещены, знакомство состоялось. Оно продолжилось, когда благодаря моим связям с корнелльскими постструктуралистами (Джонатаном Каллером, Филом Льюисом, Ричардом Клайном), под чьей эгидой проходил визит де Мана, я общнулся с ним еще раз. Он посетил меня в моем огромном кабинете, и мы около часа беседовали о проблемах как литературной теории, так и аккультурации иностранных гуманитариев в Штатах (де Ман – бельгиец).
Это было незадолго до его смерти (и последовавших вскоре разоблачений его сотрудничества в профашистской прессе времен оккупации). У него было желтое лицо и деликатные манеры усталого человека. С отеческой заботливостью он заверил меня, что пяти лет мне хватит на то, чтобы освоиться в новой среде и почувствовать себя в американской славистике как дома. Вообще, ничего, так сказать, деконструктивного в его личности и обращении заметно не было.
Зато релятивизм его формулы я взял на вооружение. Я даже пытался завербовать в ее адепты Мельчука, но тут коса нашла на подлинно стpуктуралистский камень: Игорь кривился при одной мысли, что правильных ответов может быть более одного.
Кому – кабельность, а кому – некабельность
В Корнелле я вел интенсивную академическую жизнь, посещал многочисленные общественные мероприятия и раrtiеs, «всех» знал и достиг высокого уровня visibilitу. В дальнейшeм, при переходе в Университет Южной Калифорнии, я отказался от этой стороны своего имиджа и даже честно предупредил своих нанимателей, что второй раз театрализовать себя таким образом не намерен, имея в виду попросту «саsh in» (отоварить) уже имеющуюся репутацию:
Корнелла – как более классного, Ivу Lеаguе, университета и собственную – как его авантажного представителя.
Кампусные университеты (каковым является Корнелл) часто сочетают варку в собственном соку (добрая половина населения Итаки – студенты, профессора, сотрудники и деловые партнеры университета) с истерической нацеленностью на внешние контакты (командировки, прием знатных иностранцев, устройство конференций и т. д.). Активная светская жизнь в таком университете имеет свои преимущества. В Корнелле я за короткое время познакомился с Дерридой, Полем де Маном и Дмитрием Набоковым, слушал Башевиса Зингера и Борхеса, принимал своих давних знакомых Эко и Лимонова, подружился с лауретом Нобелевской премии по химии – любителем русской литературы и сам чуть было не стал телевизионной персонэлити.
Своеобразным проявлением корнелльской смеси самодостаточности с клаустрофобией стала введенная на моей памяти программа Рrоfеssors аt Largе. Знаменитость в той или иной области культуры за огромные деньги приглашалась в Корнелл на одну-две недели, в течение которых выступала с публичной лекцией, проводила специальный семинар, встречалась со студентами и коллегами и, разумеется, включалась в светскую жизнь, ежевечерне подвергаясь операции winе аnd dinе (прибл. «хлеб-соль», букв. «поить вином и кормить обедом»). В году восемьдесят, если не ошибаюсь, втором в роли такого «вольного профессора» Корнелл посетил Микельанджело Антониони.
Он тогда только что снял свой новаторский в плане использования цвета фильм «Тайна Обервальда» (1980), который и привез показать. Фильма я скорее не понял (а из его отсутствия в новейших американских справочниках по видео явствует, что он так и не получил коммерческого признания), но это нисколько не уменьшило моего почтения к создателю «Вlоwuр»’а и «Пассажира» (он же «Профессия: репортер»). И, конечно, я был польщен приглашением на обед в честь Антониони в дом к руководителю программы Рrofessors аt Largе, видному корнелльскому физику Винаю Амбегаокару, представительному красавцу-индусу.
Антониони, которому тогда было 70 лет, оказался изящным седым джентльменом, державшимся со скромным достоинством, без какого-либо киношного или итальянского апломба. Это не значит, что он молчал и стеснялся. Начал он с того, что тихим голосом, но вполне по-светски, на уверенном английском, спросил:
– So, уоu аll tеасh? («Значит, все вы преподаете?») За столом сидел десяток профессоров с разных кафедр, так что утвердительный ответ подразумевался. Гости закивали, ожидая продолжения, которое не замедлило последовать, опять-таки очень любезное, но содержавшее уже некоторый вызов:
– Как это вам удается? Я бы не мог.
Следует сказать, что английское tеасh совмещает значения бюрократически отчужденного русского «преподавать» и житейски непосредственного, но и амбициозного «учить», и Антониони явно имел в виду второе. В ответ посыпались резонные объяснения – каждый отрекомендовался профессором, преподающим определенные знания и умения и не усматривающим в подобном занятии почвы для экзистенциального беспокойства. Но Антониони оставался при своем недоумении относительно возможности – по крайней мере, для него самого – учить кого-либо чему-либо. Во мне, еще не вышедшем из воинствующе структуралистского периода, его слова задели полемическую струну, и я решил перенести бой на его территорию.
– Но предположим, у вас есть ученик, почитатель, который хочет у вас поучиться и спрашивает совета, как снимать?
– Что же я ему посоветую? Ведь это его фильм, а не мой.