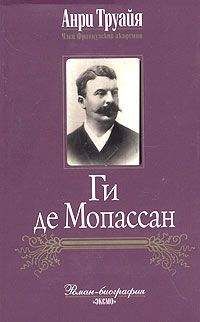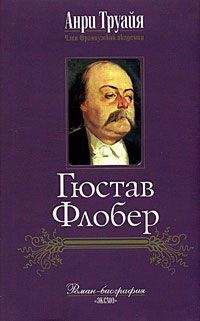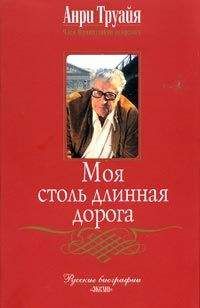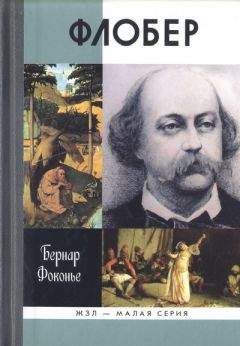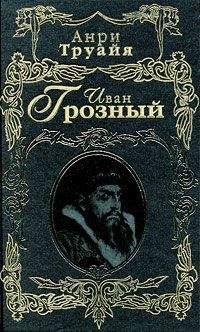Однако Мопассан ничуть не чувствует себя скомпрометированным тем, что вращается в свете. Более того, он даже видит в этом одну из причин того, что его карьера идет по нарастающей. По мнению Жака-Эмиля Бланша, автора «Жизни» заваливали пудами приглашений. «Когда кто-то из друзей приглашал его отобедать, Ги де Мопассан доставал важно, как доктор, маленький блокнот с золочеными уголками и записывал приглашение на достаточно отдаленное число», – писал он.
С какой же легкостью отдалился Ги от своего семейного окружения! С его точки зрения, отцу и брату, прозябающим в серости и в посредственности, следовало бы завидовать его успеху. Он любит их, но не чувствует нужды ни ставить их в известность о своей жизни, ни сколько-нибудь регулярно самому узнавать новости о них. Время от времени мать сообщала ему о праздной и бесцветной жизни Эрве, и этих редких вестей ему было достаточно. В порыве тщеславия Лора высказала ему всю свою нежность, все свое восхищение исключительным писателем, который силою чудес явился на свет из ея чрева, – и, по ее собственному признанию, это высшая награда в жизни женщины. Между тем здоровье Ги оставляло желать много лучшего, и мать беспокоилась, не от нее ли унаследовал он свои нервные нарушения. Поэт Танкред Мартель, встречавшийся с Мопассаном на парижских Больших бульварах, отмечал, что он разговаривал как-то странно, словно что-то снедало его изнутри. «Его смуглый оттенок кожи, куцые усы, медленный ленивый шаг придавали ему вид солдата колониальных войск, уставшего от долгого пребывания на солнце или злоупотребляющего наркотическими зельями. Его взгляды пронзали презрением к окружающим». А романист Морис Тальмейр даже утрирует: «В его глазах всегда была все та же тоска, от которой они казались остекленевшими, и тоска эта становилась все более сумрачной, все более безутешной, все более стекленящей, и он говорил мне, отведя в сторону: „Вот, милый мой друг, где я нахожусь… Я кончен!“»
Пытаясь бороться с такой хандрой, которую приписывал бесцветному городскому существованию, Ги вдруг решил удрать из Парижа и вдохнуть полной грудью воздух просторов. И вот он уже в Антибе, где нанимает виллу «Ле Боске» – милый провансальский дом с зелеными ставнями, принадлежавший морскому офицеру Морису Мютерсу. Мать писателя жила с сыном вместе. Недужная женщина существовала от мигрени к мигрени, но не сдавалась: ее мысль была такою же живой, а поведение делалось все более авторитарным. Она любила прогуливаться с сыном в саду, при бледных лучах скупого осеннего солнца, и слушать его рассказы о литературных проектах, трудах и похождениях. Успехи Ги у женщин льстили ей и забавляли ее. О чем бы ни спросил ее сын, она всегда с уверенностью высказывала свое мнение. И, слушая ее, он говорил себе, что после ухода из жизни Флобера она оставалась единственной точкой опоры, единственной, к кому он мог обратиться за поддержкой в своей такой беспутной жизни.
Каждое утро Ги усаживался за стол и пускался в работу над своим новым романом – «Монт-Ориоль». Ко всему прочему у него с некоторых пор появилось превосходное средство развлечения, к которому он охотно прибегал посреди своих литературных занятий: красивая 11-метровая яхта водоизмещением 9 тонн. Писатель приобрел ее у своего собрата по перу Поля Соньера и, как и следовало ожидать, окрестил ее «Милый друг». На этой яхте с изящным корпусом и впечатляющим парусным вооружением имелось четыре спальных места для пассажиров, а всего судно могло взять на борт восьмерых. Экипаж состоял из двух морских волков – Бернара и Раймона. «Капитан Бернар был тощ, гибок, удивительно чистоплотен, заботлив и осторожен, – так охарактеризует его Мопассан в одной из новелл. – У него была борода по самые глаза, сиявшие добрым взглядом, и добрый голос… Но в море все беспокоило его – и внезапно возникшее волнение, которое вызывал летящий над открытым морем бриз, и распростершаяся над Эстерелем туча, свидетельствующая о мистрале на западе, и даже растущие показания барометра, которые могли свидетельствовать об урагане с востока». Что же касается Раймона, то «это был сильный, смуглый и усатый парень, неутомимый и смелый, столь же преданный и честный, как и другой, но не такой подвижный и нервный, более спокойный, более покорный сюрпризам и коварствам моря».
Всякий раз, поднимаясь на борт своей яхты, Мопассан испытывал прилив гордости. Он любовался палубой, обитой панелями из тика, надежным такелажем, массивным штурвалом из красной меди и наслаждался размышлениями о том, что все это он оплатил своим писательским трудом. Вся эта прелестная игрушка – от киля до верхушки мачты – явилась символом его успеха. Еще не забрезжил рассвет, а Бернар уже спешит к вилле Мопассана и бросает в окно горсть песку, чтобы разбудить хозяина. И тут же Ги, совершив свой утренний туалет, стремился в порт. Занималась заря. Бледнели звезды. Вдалеке выходили из тени Альпы, окрашиваясь в розовый цвет. Маяк Вильфранша еще бросал на поверхность моря свои пучки света, затем угасал. Находясь между небом и водой, Мопассан упивался одиночеством, свободой и союзом с ветром и волной. Это безмолвное скольжение приносило ему такой глубокий, такой стихийный душевный покой, что ему даже не хотелось открывать новые берега. Его круизы ограничивались портами побережья, как-то: Вильфранш, Ницца, Канны, Сен-Тропе, Марсель, иногда – Портофино… Когда же он возвращался в Антиб, то бывал преисполнен впечатления, что свежая морская вода очистила ему мозг.
В декабре он покидает виллу «Ле Боске» и переселяется в «Шале дез Альп» по дороге на Бадин. Оттуда, с вершины, писатель мог наслаждаться распростершейся вдали цепью гор, а поближе – Антибом и вобанскими укреплениями. Когда дул добрый бриз, Бернар поднимал над виллой флаг владельца и устраивал выход в море. Когда же погода оставляла желать лучшего, Мопассан утешался тем, что упражнялся в стрельбе. И как-то раз он даже нанес визит жившему по соседству брату Эрве, который кое-как остепенился и создал в Антибе при помощи субсидий брата сельскохозяйственное предприятие.
19 января 1886 года Эрве решился и взял в законные супруги юную девицу из окрестности Грасса по имени Мария-Тереза Фантон д’Андон. Этот союз озадачил Мопассана. Не пристало ли и ему вот так же взять и решиться? Он так и поведал обо всем без утайки своему камердинеру. Но это было не более чем идеей, витавшей в воздухе. Идеальное существо суть выдумка импотента, говорил он сам себе. Никакая женщина не заслуживает того, чтобы связывать с нею свою судьбу на всю жизнь. Неспособный остановиться на какой-то одной, он искал утешения в том, что меняет партнерш как перчатки.
Если он находит некое удовольствие в светских галантностях, так только с тем условием, чтобы тут же, как бросаются в омут, пуститься в шашни с самыми отъявленными потаскухами. Его поклонение Приапу беспокоило Поля Бурже. Как-то раз Мопассан пригласил его позаниматься любовью с одной из своих метресс, которую замаскировал по такому случаю. Как он сам утверждал, это супруга одного из преподавателей университета, которая не хочет, чтобы ее узнали. И вот она является с черною полумаской на лице и раздевается одним движением руки. При виде этого в одно мгновенье ока обнажившегося тела оцепеневший Поль Бурже также скидывает с себя все… На это женщина зычно кричит… Кому бы вы думали? Мопассану! «Ко мне, мой фавн!» – и бросается на своего возлюбленного, касаясь его алчными устами… Бедному Бурже ничего не оставалось, как забиться в угол и в смущении наблюдать за сценою дикого плотского разгула. Вскоре после этого к Мопассану заявился Катулл Мендес со своей подругой для четверного «поединка». «И тогда, – рассказывал Поль Бурже Эдмону де Гонкуру, – все четверо пустились в жуткую оргию, под занавес каковой жена университетского профессора, впав в истерический кризис, бросилась в соседнюю комнату за принадлежащим Мопассану револьвером и пульнула в обоих кавалеров; пытаясь разоружить ее, Мопассан был ранен в руку. Именно эту рану Мопассан, которого я как-то вечером встретил на железной дороге, выдал мне за ранение, нанесенное супругом, которого он как раз бесчестил». (Гонкур. Дневник. Запись от 1 ноября 1892 г.)