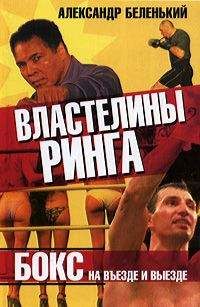Я ничего не пишу. Голова, что лукошко. А к вам опять буду писать скоро…
Прощайте. Весь ваш и всякой день беседующий с вами Алексей Кольцов.
27 февраля 1842 г. Воронеж.
Милый мой Виссарион Григорьевич! Давно я к вам не писал; давно не получал от вас ни слова; ноя от вас и не жду письма, вам теперь не до меня. Я и свободен и ничего не делаю, да и то, видите ль, когда, наконец, собрался, через сколько времени, — стыдно сказать. А между тем, каждый день думаю об вас, беседую с вами по нескольку часов.
В декабре послал я вам письмо, в котором писал вам обо всем, что у нас делалось в семействе и что делалось со мной.
После его в скорости у нас был девичник, на котором я шибко простудился и снова заболел. Сначала воспаление не очень большое было выше правого костреца; потом образовалось довольно опасное в правом боку противу сердца. Ну, это воспаление мало того, что было чрезвычайно мучительно, а больше опасно, и я ужасно трусил за жизнь, и дух мой был в самом тревожном состоянии; и как-то он не только упал, но эдак странно как-то возмущался. И в эту пору у нас была свадьба, пиры, вечеринки почти каждый день. Комната моя была на самом проходе, через нее с утра до полночи все ходило, бегало, суетилось, шумело… А добрая сестра моя, соединившись с другими замужними, общими силами овладели стариками, одурачили их, расположили ко мне отца еще дурнее, чем он был прежде. Делали безо всякого стыда все мне назло — до того, что однажды, когда меня жар убийственно томил, они в другой комнате положили девушку, накрыли ее простыней и начали отпевать покойника. Это, по их, называлась шутка!!! В другой раз добрая сестра моя, девушка-невеста, бранила мать; я за нее вступился; она мне говорит: пожалуйста, выйдите из комнаты: ваше дело молчать, без вас все обойдется. — Ну что ж, после этого я и вышел молча. Еще как-то она меня оскорбляла, мать за меня вступилась; она ей говорит: «что вы! за него? погодите, он вам нос-то скусит».
Но, слава Богу, все я стерпел, пережил, только они меня так озлили, что я начал сплетничать. Эта сплетня открыла много дурных их сторон перед лицом других людей, сдернула маску с ее суженого, и он оказался скотина-дворник, без совести, без души. Теперь я и жалею о этой сплетне, но тогда не утерпел, — был очень слаб и раздражителен, — а лучше б следовало терпеть до конца. В отомщение ж мне за нее, доброй сестре моей хотелось свадьбу протянуть до Троицы; этим бы они меня дорезали решительно. Весной таки еще ничего, можно б уходить куда-нибудь, но до Святой погода дурная, — выходить можно только в хорошие дни. Беда б мне была, да и только. Да, к счастью, сплетня моя так на них подействовала, что они сами начали спешить кончить свадьбу, и вот десять дней, как их обвенчали.
Но после сейчас же встретилась новая беда. На третий день после свадьбы отец поутру приходит ко мне и велит мне переходить жить в другую комнату, в сырую до смерти. Я заупрямился, он сказал: «решительно не хочешь — так со двора долой! живи, где хочешь». И подобных утешений наговорил кучу. После обеда уехал в гости. Я, пользуясь его отсутствием, сам перешел в сухую, покойную комнату и никому ненужную, лег в постель и стал приготовляться к решительной последней ссоре. Однако ж, дело обошлось без нее. Он приехал — не сказал ничего. Я, с своей стороны, увидел его снисхождение, пошел к нему поутру, рассказал причину моего переселения, что оно делалось не из каприза и упрямства, а по необходимости. Дело тем и кончилось. Комната осталась за мной.
В ней я живу теперь тихо, покойно, дышу свободно; а отдыхаю, сколько угодно; ем хорошо, обед готовят хороший, сплю довольно; и это так меня успокоило, что здоровье мое стало лучше. Я бросил все сплетни и даже нарочно ездил к моей доброй сестре и к двум другим с извинением, и просил прощения в нанесенном мною им, может быть, оскорблении. Помирился, просил их, чтоб и они меня не беспокоили и не сердили. Бог с ними! Им как ни жить — все равно, они здоровы; да им даже моя сплетня дала жизнь, движение. — Да мне-то что из этого? Мне надо думать о себе, и о здоровье, а всякое огорчение меня расстраивает.
Итак теперь, милый мой Виссарион Григорьевич, я живу, слава Богу, хорошо пока. Горе упало с плеч. Черное время пережил; силы моей жизни и в самые горькие убийственные минуты поддерживали меня, и я еще живу и пишу к вам, и силы мои лучшают, — не говорю: духовные, их еще нет, но я рад пока и физическим. они мне необходимы. С отцом редко вижусь, дел он мне не наваливает. Оскорблять — пока не оскорбляет. Необходимое, кроме денег, дают, но я рад уж и последнему. Вот почему я так долго к вам не писал. Теперь у меня все положено ждать весны. Пост своею ростепелью страшить; однако лекарь мой говорил, чтобы я за себя не боялся. Болезнь продолжится, но за жизнь он ручается, и я ему вполне верю. Конечно, о себе, о болезни и делах семейных я сказал вам все. Мир им.
Мое последнее письмо, как я и думал, вас уж в Питере не застанет. Эту пору вы были в Москве, и я думал, оно к вам не дойдет; но вчера, получивши второй номер «Записок», увидел «Поминки» и успокоился: значить, вы его получили. «Демон» Лермонтова переписан и готов, и я бы его уж послал, да в первом номере увидал, что его не напечатают, и потому теперь не пошлю, — он вам не нужен.
Журнал ваш «Отечественные Записки» ужасно поздно у нас получается, после всех журналов: 1 No получен 2-го февраля, 2 No — 25 февраля. В Курске же 1-й получен десятью днями раньше. Меня ужасно опечалило, когда я услышал, что губернатор получил от внутреннего министра номера на «Отечественные Записки» и раздает через думу. Это значит, что подписка была пустая и Андрей Александрович прибег к этой мере по необходимости. Плохо. Издавай у нас после этого хорошие, умные журналы! Не знаю, как в других местах, ау нас большая часть голосов в пользу «Записок». А другие побранивают: они не по их мозгу. «Библиотеку» все бранят, но ее кредит так утвердился, что бранят, бранят, а все-таки выписывают. Они не хотят прямо сознаться в своем тупоумии, а внутри всякой идиот чувствует, что «Библиотека» ему по плечу, а с «Записками» горе: их надо читать с толком. «Библиотеку» можно читать без толку. А о других журналах у нас почти не говорят, их как будто нет на свете.
Первый номер «Записок» чрезвычайно хорош, все отделы полны интересом. «Актеона», повесть Панаева, весьма хороша, и ее все читают и хвалят, кроме помещиков, особенно молодых; тем она не по нутру. Жаль, кой-где в ней Иван Иванович хочет смешить и силою натягивает комизм. Его у него нет, а у него очень много светской, тонкой, язвительной иронии. Эта сторона ему далась — и недавно; важное приобретение, владеть иронией — великое дело. Ольга Павловна у него тоже натура новая, удивительная натура и поставлена художественно — в эти мерзкие характеры, между низкими подлыми душонками. Она погибла между ними без воплей, без страданий, но за то какие задушены внутри ее души вопли и страдания, и как они громко раздаются в каждом чувствующем человеке, и какая к ней возбуждается в душе любовь и сожаление, и как готов торжественно проклясть ее палачей и губителей!