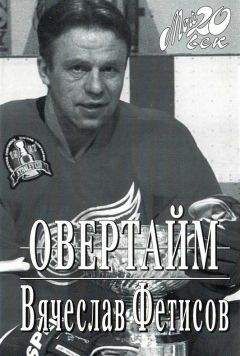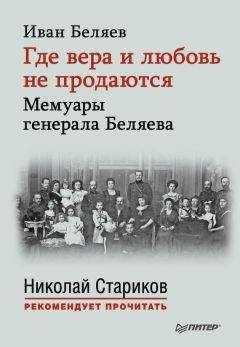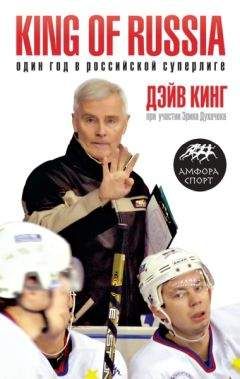У меня началась истерика, рыдания с причитаниями. Кругом полно милицейских машин, две «скорые помощи». Слава идет мне навстречу, а меня Вадим за руку схватил и говорит: «Замолчи сейчас же. Успокойся и замолчи. Возьми себя в руки». Слава идет, у него растопырены руки, они в крови, вся куртка разодрана, весь бок в крови. Подошел: «Мы разбились, мы разбились, с Толиком плохо». А я его трогаю: целый или нет? Он меня просит: «Останься документы оформить и чтобы машину убрали отсюда». Его врачи уже отводят к «скорой помощи», я за ним иду. Спрашиваю: «А Толик?» Он говорит: «Толика увезли». Но Толик, оказывается, лежал в этой машине. Слава просто не хотел, чтобы я его видела в таком состоянии. Мне потом уже рассказали, что Толику сделали укол в сердце и он четыре часа еще жил.
Мы приехали в больницу, а у Славы начался нервный приступ, его привязали к кровати ремнями. Он отделался сломанными ребрами и ушибом головы. Его выбросило из машины креслом Толика. К нам вышли врачи, сказали, что для Толика нужна первая группа крови. Я — сразу звонить Гене Цыганкову, ребятам-хоккеистам, друзьям. Вадим сразу проверил свою кровь, она подошла. Славину стали проверять. Толик лежал в операционной, весь перевязанный.
Приехал из «Склифосовского» профессор, специалист по черепно-мозговым травмам. Зашел и вышел через десять минут, сказав, что травма такая, что даже если Толик и останется жить, то будет полным инвалидом. На Вадима уже надели рубашку, бахилы, чтобы вести на переливание; приехал Гена Цыганков, другие ребята… Но из операционной вышли врачи, и кто-то Вадима остановил, мол, уже ничего не надо. Я потеряла сознание.
Пришла в себя уже дома. В комнату Гена заходит и спрашивает, есть ли у меня водка. Я показала, где взять, а сил нет, чтобы пойти, какую-то закуску предложить. Но взяла себя в руки, надо что-то на стол поставить, ребят собралось человек шесть. Зашла на кухню и слышу, как они говорят: «Ну что, помянем?» И я поняла — это конец. Больше нет никакой надежды.
Наверное, часов в шесть утра вернулся Слава. Ужасно, когда не знаешь, что сказать в такой страшный момент самому близкому человеку. Слава после той ночи не спал месяца три, лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. Иногда на балкон выходил, я за ним следом, держала его за рубашку или за джинсы, боялась. Он смотрел вниз с таким лицом…
После смерти брата Слава ни разу не улыбнулся за два года. С ним до сих пор так бывает: сидит, что-то рассказывает, смеется, потом вдруг замкнется, глаза опустит. А как он смотрит на ребят; Федорова, Константинова, Могильного… Они же с Толиком играли, они его ровесники… Слава к ним относится, как относился бы к Толику. Толик в семнадцать лет был здоровее и крупнее Славы. Брюки мужа я ему отдавала, а они ему были внатяжку на бедрах, хотя у Славы будь здоров какие ножищи. Какие Толик подавал надежды! Слава считал, что младший брат будет играть лучше, чем он. Как Слава остался в хоккее — только одному ему известно. Мама ему говорила, что играть он должен за двоих. Я же твердила, что жить он должен для матери и отца. Единственный довод, который я находила, это то, что Толик ему спас жизнь. Значит, так суждено, это судьба. Они были очень близки.
Слава — человек с огромным сердцем. Он таким родился. В нем живет большая любовь к родителям и преклонение перед ними. И такое же отношение было к брату. Если к нему обратиться за помощью, он отдает себя полностью. Поэтому ему в тысячу раз больнее, когда потом возвращается в ответ не «спасибо», а полная неблагодарность, а в большинстве случаев именно так и бывает. Но он все равно не может иначе. Если Слава не в состоянии что-то сделать, он никогда не пообещает, что поможет. Но если что-то в его силах, он обещать не будет, а сделает. Уже приятели забыли о том, что просили, а он, пусть через месяц, но позвонит; ты знаешь, у меня получилось. Была бы у меня волшебная палочка, я бы ее использовала только для одного — чтобы все были живы и здоровы!
Теперь, когда приезжаем в Москву, идем на Долгопрудненское кладбище, там похоронены и Толик, и мой папа, и Славина мама, и бабушка с дедушкой — пятеро. Приехали с Настенькой, подошли к могиле Толика, Настенька смотрит на памятник. Слава взял ее на руки, подошел к бюсту, погладил брата по лицу, и дочка за ним гладит гранит. Он ей объясняет: вот, Настенька, здесь твой дядя, он погиб, когда был совсем молодым мальчиком. Она его спрашивает: «Если я положу цветочек, он будет знать, что я приходила к нему? Он вообще знает про меня?» Слава объясняет, что, наверное, знает. Он теперь ангел, смотрит за тобой и тебя оберегает.
В нем, в его душе, в его сердце смерть брата, и она не уйдет оттуда никогда.
Я думаю, что, когда он смотрел ночами в потолок, наверняка прокручивал в уме эту секунду: если б раньше проехал, если б раньше вывернул, если б поехал другой дорогой, если бы вообще никуда не поехал, бросил ко всем чертям эту машину, которую и чинить-то незачем — старая, вся сыпалась. Наверное, он обо всем этом думал. Наверное, он не обвинял себя, а просто прокручивал в голове без конца этот момент. Я знаю, что единственная его мечта — это вернуться назад и хотя бы на три секунды раньше проехать это проклятое место. А я все твердила и твержу, что это судьба, значит, так было предначертано, ты остался, а его к себе забрали. Значит, по-иному быть не могло, именно в это время и по этой улице вы должны были проехать.
Эта трагедия сильно отразилась на наших с Ладой отношениях. Потому что теперь мои родители категорически возражали, чтобы мы поженились. Ладины, может, уже и смирились, но мои… После поминок, похорон… Мама сказала на поминках: «Ты, сынок, должен жить теперь за двоих, спасибо Господу Богу, хоть одного мне оставил». Мамины слова придали мне силы, чтобы восстановиться после пережитого кошмара. Я долго чувствовал свою вину: почему погиб не я? Следствие, экспертизы — для меня все прошло в тумане. Спрашивали, расспрашивали — все как во сне. Дело не в следствии. Если бы я был виноват: скорость сумасшедшая, пьяный был — тогда понятно, отчего нет Толика. Но я мог честно смотреть в глаза родителям.
Когда Толик был маленький, три, может четыре года, ребята во дворе играли в «чеканку» — кто больше ударов набьет мячом, не давая ему опуститься на землю. Никого нет дома, меня оставили смотреть за братом, а он спал. Лето, окна открыты. Пацаны позвали снизу, ну что мне тогда, двенадцать лет, я спустился, мы стояли кружком прямо около подъезда. Наша квартира на пятом этаже. Я «чеканю», подбил мяч, наверх задрал голову и вижу: Толик сидит на подоконнике в кухне. Как он туда влез — не знаю. У меня сердце сразу ушло в пятки, мяч бросил, за секунду взлетел на пятый этаж. Не знаю как, но инстинктивно понял, что нельзя вбегать. Потихоньку открыл дверь, пополз по полу от порога до окна. Полз по-пластунски, чтобы его не спугнуть. А он сидел, свесив ноги наружу, пятый этаж! Все, кто торчали во дворе, рты пораскрывали и застыли.