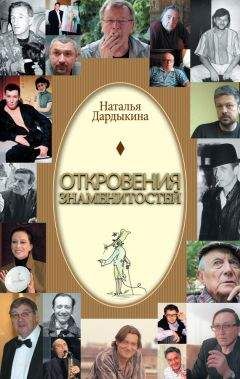— Вы же режиссер — напрягите фантазию! — сказала дама.
По ее совету, мы внесли в список еще письменный стол и буфет. Потом дама добавила диван и два кресла.
— Вы же молодой человек, — пояснила она, — к вам будут приходить гости — приятели и приятельницы. Необходим чайный сервиз! Пока на шесть персон!
И она принялась изобретательно раздувать мои запросы. Когда она добавила платяной шкаф и увеличила сервиз до двенадцати персон, я спросил, дадут ли мне жилье?
— Вот с этим в Ленинграде плохо, — вздохнула советчица, — война, блокада — сами понимаете! А список я вам подпишу. С паршивой овцы — хоть шерсти клок.
Кого моя благодетельница считала паршивой овцой, было непонятно.
Потом я приехал в Питер. Была середина мая, светило солнце, но прямые питерские улицы продувал холодный ветер. Дома стояли облупленные, не ремонтированные еще с революционных и блокадных времен. По углам расставлены были синие пивные ларьки и прохаживались строгие милиционеры. Развеселило меня метро. Оно называлось: «Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени Ленина». Во дворах громоздились поленницы дров. Ленинградцы не спешили переходить на центральное отопление и ломать печи. Этому их научила блокада. Из темных подъездов пахло треской и щами из «хряпы» — зеленого капустного листа, который подбирали жители после уборочных кампаний. Это был главный запах в Питере пятидесятых. Много попадалось болезненно полных людей — сказывались последствия блокадной дистрофии. Я невольно вспомнил ассистента Кривицкого с его противогазной сумкой. Блокадная Хиросима жестоко поразила город и людей. Они долго еще будут восстанавливаться и оживать.
Студия «Леннаучфильм» размещалась за Невской лаврой в здании бывшего Общества трезвости. Стены Общества трезвости никак на обитателей студии не повлияли — посиделки в буфете и служебных закутках были неизменной традицией. За рюмкой водки студийцы рассказывали каждый свое но всегда — о блокаде. Студия была в то время сборным пунктом и своеобразным штабом фронтовых операторов. Сюда они приезжали с фронта отсыпаться и перезаряжаться, здесь получали новые задания. Меня познакомили со старожилами. Фамилии у кинематографистов-блокадников были такие: Голод, Замора, Умрихин и Гробер, а представил своих товарищей оператор по фамилии Могилевский. Ничего себе!
Жилья, конечно, мне не дали и даже не пообещали. Пока что, меня передавали с рук на руки знакомые еще по ВГИКу ленинградцы и новые сердобольные коллеги. Если бы я вдруг стал знаменитым и в Питере установили памятные таблички на домах, где я ночевал, снимал койки и углы, то по количеству мемориалов я затмил бы даже Владимира Ильича. На студии работали, в основном, уволенные по бескартинью ленфильмовцы. А вот уже упоминавшийся Голод пострадал из-за фамилии. Однажды, отчитываясь о проделанной работе, он должен был из экспедиции сообщить, что работы в Совете министров некоей республики окончены, но здешняя милиция помощи не оказывает. На «Ленфильм» пришла такая телеграмма: «Совет министров снят. Милиция ненадежна. Голод». Даже когда он присылал вполне оптимистические телеграммы, получался скандал. Из Одессы он сообщил следующее: «Прибыл Одессу. Все в порядке. Голод». Страдалец был переведен на «Леннаучфильм» «без права служебной подписи».
В числе изгнанных оказался и оператор фильма «Чапаев» Александр Иваныч Сигаев и многие другие. Мне показали недавно выпущенного из психушки классика советского кино режиссера Петрова-Бытова. Весь мир его знал по знаменитому фильму «Каин и Артем». Студийцы доверительно рассказывали, что однажды Петров-Бытов появился на людной трамвайной остановке и обратился к народу с речью. Он заявил, что мы живем при деспотическом режиме, а Сталин — кровавый диктатор. Слышать такое было необычно и страшно. Люди попрыгали в трамвай, а к Петрову тут же подъехала «скорая». Нормальный человек сказать такое, конечно, не мог, поэтому его не судили, даже не допрашивали, а просто надели на него смирительную рубашку. Больной вел себя спокойно, психушка была переполнена, и вот теперь громадный, горластый Петров-Бытов как ни в чем не бывало расхаживал по студийному вестибюлю. Ему дали и работу — учебный фильм: «Профилактика болезней сельхозживотных». В редакции работали приличные люди: Саша Лившиц (будущий Александр Володин), брат поэта Мандельштама Евгений Эмильевич Мандельштам и моя однокурсница Фрижа Гукасян.
Фрижин муж, оператор Генрих Маранджян, был вроде бы направлен на «Ленфильм», но в последний момент, в связи с бескартиньем, вызов отменили, а Генриха отправили в армию, в Сибирь. Он занимался там аэрофотосъемками и регулярно писал письма товарищу Сталину. «Дорогой товарищ Сталин! — сообщал вождю муж Фрижи. — Государство в меня вложило много денег, а я нажимаю в самолете на какую-то кнопку. К тому же распадается молодая семья. Прошу восстановить справедливость и снова сделать меня оператором на «Ленфильме». Он отправлял письма аккуратно, раз в неделю. Дружеская, но односторонняя переписка с вождем продолжалась до самой его кончины. Возможно, Генрих как раз и довел Сталина своими письмами до инсульта. Позже Маранджян стал известным кинооператором, но в описываемое время Фрижа, как верная жена декабриста, ждала вестей из Сибири.
Мне переслали из Москвы сценарий. Это было как бы продолжение моего дипломного сюжета про болотные машины. Так временно смягчилась квартирная проблема — я уехал в командировку в Прибалтику и жил в гостиницах.
Прежде я часто встречался с латышами в наших ссыльных краях, а теперь увидел их, так сказать, в родной среде. Симпатий к русским у них не прибавилось. В газетах писали о социалистической Латвии, выполнениях, перевыполнениях и дружбе, а на самом деле, здесь шла тайная всенародная война. В больших городах это было не очень заметно, а в хуторах и маленьких городишках, вроде Цессиса, этого даже не скрывали. Наш водитель Арвид Степанов (он был из русско-латышской семьи) отвез нас на маленькую машиноиспытательную станцию. Здесь мы поселились и снимали. Хуторяне-латыши нас просто не замечали. Когда мы заходили в здешний клуб посмотреть кино, вокруг нас возникало пустое пространство.
Посредниками между нами и местными жителями были Арвид и начальник испытательной станции. Это был уже пожилой человек, окончивший когда-то Петербургский университет и хорошо говоривший по-русски. Он заходил к нам иногда по вечерам. Начальник, Арнольд Янович, был вдовцом и жил неподалеку с дочкой — семнадцатилетней девушкой редкой красоты. Недавно, по вине отца, она лишилась ноги. Ее покалечил плуг, а трактором управлял сам отец. Начальник расспрашивал нас о Ленинграде, который называл Петербургом. Он интересовался, насколько изменился город, и перечислял места, которых давно уже не было. Потом Арнольд стал приходить чаще — по мере того, как у него накапливались вопросы. Начинал он без предупреждения.