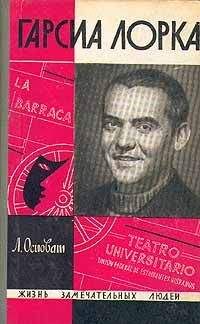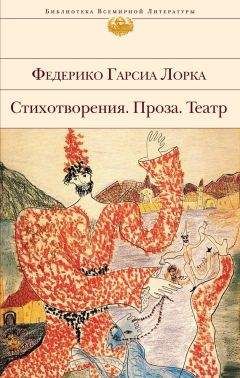И в конце письма Федерико опять возвращается к мыслям, не дающим ему покоя. Может быть, в самом деле начать выступать с лекциями? За границей? В Париже – это было бы лучше всего! Попытаться, что ли?
«Родители дадут мне столько денег, сколько я попрошу и даже больше, как только увидят, что я вступил на путь... как бы выразиться... официальный. Вот именно, официальный!
Но впервые они категорически возражают против того, чтобы я и впредь сочинял стихи, не думая более ни о чем. Малейшего усилия с моей стороны достаточно, чтобы они остались довольны. Поэтому я и хочу заняться чем-нибудь... официальным».
Однако теперь эти мысли уже не владеют им безраздельно. Житейские заботы отступают на задний план, как только он переходит к тому, что волнует его больше всего на свете. Голос, который слышится Хорхе Гильену, пробегающему глазами его письмо, вдруг делается таким, каким Федерико читает свои стихи. Да они и похожи на стихи, эти строки, где о поэзии говорится на собственном ее языке: «...Настоящая поэзия – это любовь, усилие и самоотвержение.Наполнять поэзию трубными звуками и украшать ее драпировками – все равно что превращать академию в публичный дом. Только тебе я могу сознаться, что ненавижу орган, лиру и флейту. Люблю человеческий голос. Одинокий человеческий голос, донага раздетый любовью...
...Мне очень нравятся твои стихи. И все-таки я думаю, что все мы грешны перед поэзией. Еще не написано стихотворение, которое пронзило бы сердце, как шпага...
...Я тоже грешен. Я пустил на ветер много чудесных поэтических мгновений, не в силах вытерпеть жара, который жег мне руки. Но теперь я переменился и с каждым днем буду меняться все сильнее». В этом же письме Федерико посылает другу новый романс. Он называется «Схватка» и начинается так:
В черных глубинах ущелья
две альбасетских навахи,
красуясь вражеской кровью,
блестят, как рыбы во мраке.
Под острой иглою света
из резкой листвы возникли
морды коней исступленных,
профили всадников диких.
Горестно плачут старухи
под сенью древней, оливы.
Неистовый бык раздора
кидается на обрывы...
Дойдя до подписи: «Федерико (неисправимый поэт)», Хорхе вздыхает с некоторым облегчением. Быть может, суровый приговор, который предстоит ему вынести утопическим проектам друга, окажется для того не таким уж тяжким ударом?..
И действительно, ни в одном из последующих писем Федерико не заикается больше о том, чтобы сделаться преподавателем или отправиться с лекциями за границу. Как раз в это время к нему в гости приезжает приятель по Резиденции, поэт Эмилио Прадос – «охотник за облаками», как назвал его Федерико в посвящении к одному из стихотворений. Сейчас он обосновался в Малаге и там вместе с Мануэлем Альтолагирре затеял издание журнала «Литораль», которому предстоит – Эмилио головой ручается – стать знаменем всей молодой испанской поэзии. Издатели «Литораля» намерены выпускать также отдельные поэтические сборники. Им уже обещал свою новую книгу Рафаэль Альберти, получивший в прошлом году Национальную премию по литературе. А другая книга... если говорить начистоту, за нею Прадос и явился в Гранаду.
Ну, конечно, кому не известно, как противится Федерико изданию своих сочинений! Но ведь рано или поздно придется на это пойти – мы живем не во времена трубадуров. Тем более что, отказываясь публиковать стихи, Федерико все равно не в силах помешать их распространению в списках, сделанных по памяти, с ошибками и искажениями! Так не лучше ли взять дело в собственные руки?
Приготовившийся к длительной осаде, Эмилио озадачен легкостью, с какою на этот раз удается сломить сопротивление Федерико. Боясь, как бы приятель не передумал, он торопится в Малагу со своим трофеем – школьной папкой, набитой исписанными листочками, а Федерико садится заканчивать «Цыганский романсеро».
Андалусская осень уже позеленила поля, склоны гор усыпаны нарциссами и гиацинтами, а Федерико все не спешит в Мадрид, и родители видят в этом доброе предзнаменование. Сын с утра до ночи занимается в своей комнате – глядишь, и дождется вакансии... Однажды утром донья Висента, волнуясь, протягивает ему конверт, надписанный незнакомой рукой, – из Вальядолида, университетского города. Уж не извещение ли о конкурсе, не официальное приглашение ли? Но Федерико достает из конверта номер газеты «Кастильский Север», и мать, читая через его плечо строки, обведенные красным карандашом, испытывает смешанное чувство – разочарования и гордости.
«Этот вечер, – напечатано там, – стал для меня чудесным открытием. Федерико Гарсиа Лорка еще неизвестен. Не пришло еще время для того, чтобы дети пели хором его романсы, а девушки повторяли тайком его песни. Но такой день наступит, и тогда я смогу сказать: „Я был одним из первых, кто видел его и слышал, и я не ошибся“.
И – подпись: Мануэль Коссио.
«Сеньору Хорхе Гильену, профессору литературы в университете города Мурсии.
Гранада, 8 ноября 1926 г.
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Нехорошо. Я все время жду письма от тебя, а письма нет. Ты знаешь, что мои стихи ужев типографии?
...Тем не менее не могу не послать тебе этот отрывок из «Романса о гражданской гвардии», который я сейчас сочиняю.
Я начал его два года тому назад... помнишь?
Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
горят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
проходят, стянув ремнями
сердца из лаковой кожи.
Это пока еще пробный кусок. А дальше.
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую тьму молчанья.
От них никуда не деться —
мчат, затая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов.
О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква,
вскипает настой черешен.
И кто увидал однажды,
забудет тебя едва ли,
город имбирных башен,
мускуса и печали!
Ночи, колдующей ночи
синие сумерки пали.
В маленьких кузнях цыгане
солнца и стрелы ковали.
Раненый конь в тумане
печаль поверял полянам.
В Хересе-де-ла-Фронтера
петух запевал стеклянно.
И крался проулками тайны
ветер лесных одиночеств
в сумрак, серебряный сумрак
ночи, колдующей ночи.
Иосиф и божья матерь
к цыганам спешат в печали —
они свои кастаньеты
на полпути потеряли.
Мария в бусах миндальных,
как дочь алькальда, нарядна,
шуршит воскресное платье,
блестит фольгой шоколадной.
Иосиф плащ развевает
в толпе танцоров цыганских.
А следом Педро Домек
и три царя персианских.
На кровле грезящий месяц.
дремотным аистом замер.
Взлетают огни и флаги
над сонными флюгерами.
В глубинах зеркал старинных
рыдают плясуньи-тени.
В Хересе-де-ла-Фронтера —
полуночь, роса и пенье.
О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен...
Гаси свой огонь зеленый —
все ближе черные стражи!
Забыть ли тебя, мой город?
В тоске о морской прохладе
ты спишь, разметав по камню
не знавшие гребня пряди...
И так далее, и так далее...
Вот до этого места я дошел. Здесь появляется гражданская гвардия и разрушает город. Затем жандармы возвращаются в казарму и там пьют анисовую настойку «Касалья» за погибель цыган. Сцены грабежа будут великолепны. По временам гвардейцы, неизвестно почему, станут превращаться в римских центурионов. Этот романс будет длиннейшим, но и одним из лучших. Заключительный апофеоз гражданской гвардии будет волнующим.
Как только закончу этот романс и «Романс о мучениях цыганки Святой Олалии из Мериды», буду считать книгу завершенной... Надеюсь, что это хорошая книга. Отныне не коснусь больше – никогда! никогда! – этой темы.
Прощай...
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Федерико».
Правда, закончить «Романс о гражданской гвардии» удается не сразу. Еще много часов проводит Федерико за рабочим столом, напоминая себе охотника, потерявшего след. Замысел, казалось бы, продуманный до конца, повисает в пустоте, заготовленные строки не желают соединяться.
Вновь и вновь перечитывает он написанное. Нет, он не ошибся, до сих пор все – себе в этом можно признаться – безупречно. И гражданская гвардия – зримое, осязаемое воплощение власти, тупой и безжалостной. И выстроенная его воображением, населенная его мечтами цыганская столица Херес-де-ла-Фронтера, ничего общего, кроме имени, не имеющая с реальным Хересом – сонным и пыльным городом, где и цыган-то не осталось. И дева Мария с Иосифом – не величественные небожители, а герои крестьянских легенд, действующие лица знакомой каждому с детства евангельской трагедии.
Трагедии? А разве то, что разыграется здесь, не трагедия, и сам он не участник ее? Ведь гибель вольного цыганского города – это смерть и его поэзии, его сказки! Не потому ли романс так упрямо не хочет двигаться к намеченному финалу, что финал этот, с превращениями гвардейцев в римских центурионов, с заключительной картиной их торжества, недостаточно строг и скорбен?