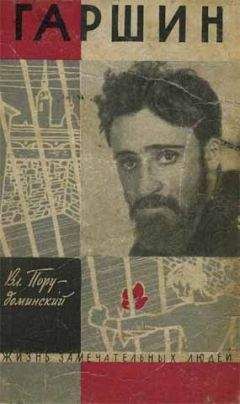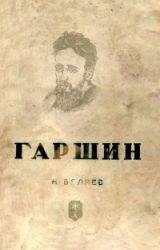— Имя?
— Ипполит Маевский.
— Когда вас задержали на Дворцовой площади, вы назвались Молодцовым.
— Ну, значит Молодцов.
— Так Молодцов или Маевский?
Преступник задумался. Что ж, пожалуй, пусть все узнают, кто он такой. Ответил четко:
— Млодецкий. Ипполит Осипов Млодецкий.
— Какую цель вы имели, пытаясь лишить жизни главного начальника Верховной распорядительной комиссии?
— Комиссия создана для борьбы с партией.
— Ваш выстрел санкционировала партия?
— Нет.
— Кто знал о покушении?
— Никто. Послушайте, мне уже надоело отвечать на вопросы. Ну какая вам разница? Не я, так другой. Не другой, так третий. Все равно Лорис-Меликов будет убит. И не только он…
Градоначальник вздрогнул…
До позднего вечера у дома на углу Большой Морской и Почтамтской теснились экипажи. Сиятельства и высокопревосходительства приезжали поздравить диктатора по случаю избавления от гибели. Лорис-Меликов держался отлично. Добродушно посмеиваясь, демонстрировал гостям несколько испорченный пулей мундир. Гости ахали. Около десяти прибыл прокурор судебной палаты Плеве — привез дело Млодецкого и уже утвержденный обвинительный акт. Проводив последнего гостя, Лорис-Меликов вызвал адъютанта:
— Отправьте дело в Санкт-Петербургский военно-окружной суд. Усильте охрану. Выставьте часовых. И не пускайте сюда никого. Никого!..
В девять часов утра 21 февраля адъютант положил на серебряный поднос большую пачку телеграмм, писем и записок с выражениями сочувствия по поводу случившегося и отправился в кабинет к Лорис-Меликову.
В девять часов утра Млодецкого привезли из Петропавловской крепости в военно-окружной суд. Он сидел на простой деревянной скамье в небольшой камере, дверь из которой вела в зал судебных заседаний». Он думал с горечью о том, итак нелепо все вышло. Разработанный с блеском план рухнул. Двадцать четыре года прожиты на свете впустую. Приговор Млодецкий знал заранее. Убит диктатор или уцелел, приговор мог быть только один. Но смерть диктатора окупила бы жизнь Млодецкого.
В половине одиннадцатого Млодецкого ввели в зал. Он зажмурился от яркого света, бившего в окна. Его посадили за невысокой деревянной загородкой. Судебное заседание началось.
Подсудимого спросили, признает ли он себя виновным. Млодецкий молчал. Он решил не отвечать на вопросы. «Подсудимый, встаньте!» — приказали ему. Млодецкий остался сидеть.
Люди с золотыми эполетами и звездами посоветовались, затем было объявлено, что за неуважение к суду подсудимый Млодецкий удаляется из зала, причем нет никаких препятствий вести судебное следствие в его отсутствие.
В час дня был оглашен приговор, согласно которому государственный преступник Млодецкий присуждался к смертной казни через повешение. Приговор надлежало привести в исполнение на следующий день, в одиннадцать часов утра, на Семеновском плацу.
Есть, спать, гулять, работать, когда где-то рядом готовились убить человека, было невозможно. Смерть! Снова смерть! Только неделю назад Гаршину казалось, что с этим покончено, что рассудительность и великодушие победили. И опять ненужный выстрел. И опять петля вместо великодушия. Неужели же диктатор так и будет действовать одною правою рукою? Неужели не поймет, что не примером жестокости, а примером человеколюбия можно остановить террор? Нужно крикнуть ему об этом!.. Задержать поднятую руку палача!..
Два вложенных один в другой листка почтовой бумаги. Гаршин писал стремительно, огромными буквами. Это была мольба. Он умолял диктатора отказаться от казни и тем казнить идею террора.
«Ваше сиятельство, простите преступника!
В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) — и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных. Кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше».
Только бы он не решил, чего доброго, что в этих словах новая угроза, новый выстрел. Пусть знает, как много надежд связано с ним, как ждут от него слова добра и правды.
«Пишу Вам это, не грозя Вам: чем я могу грозить Вам? Но любя Вас, как честного человека и единственного могущего и мощного слугу правды в России, правды, думаю, вечной.
Вы — сила, Ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их!»
И пусть он поймет наконец, что именно в ответ на эшафоты и кандалы родились кинжал Кравчинского, револьвер Соловьева, динамит, взорванный в Зимнем.
«Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения».
И еще раз, нужно еще раз повторить о самом главном. Чтобы это стало не случаем, не благим порывом, а переломом, новой эрой в политике.
«Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди.
Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне — этого мне и не нужно, — но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение Всеволода Гаршина.
Подписываюсь во избежание предположения о мистификации».
Гаршин спохватился — у него не оказалось клея. Наспех одевшись, не застегивая пальто, он бросился на улицу. В лавке судачили о выстреле Млодецкого, о приговоре.
— Завтра утром и повесят, — рассудительно говорил кто-то. — Вздернут за милую душу. И поделом.
Не переводя дыхания, Гаршин взлетел по лестнице. «Заутра казнь. Заутра казнь», — повторял он, сам того не замечая, привычное сочетание слов. Он снова схватил перо и приписал:
«Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради Родины и всего мира, ради бога».
Уже запечатывая письмо, понял — не успеет! Не придет вовремя! Нужно срочно предпринять что-то!
Стук молотка гулко разносился по лестнице: в одной из квартир забивали гвоздь. Гаршину чудилось, будто где-то совсем рядом сооружают эшафот. Он сунул письмо в карман и выбежал из дома.