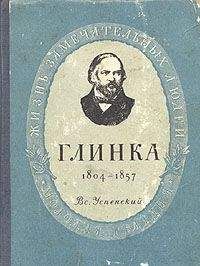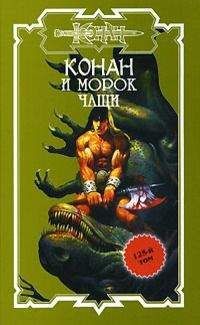«Испанские увертюры» и «Камаринская» Глинки вызвали интерес в музыкальных кругах Петербурга. Его музыку встречали с восторгом, овациями, несмотря на то, что светское общество столицы увлекалось итальянской оперой, а русскую музыку притесняли: было даже издано высочайшее повеление не принимать на итальянский театр произведения русских композиторов.
На музыкальном вечере у Одоевского Глинка встретил много совсем незнакомых лиц. На смену поколению Глинки приходило новое поколение, с новыми взглядами и интересами.
Приглядываясь к столице, Глинка видел, что музыкальное движение в ней не только растет и ширится, но что оно захватывает уже и другие, чем прежде, слои петербургского общества, и понемногу вытесняет аристократов. Не только в салонах и в гостиных, посещаемых дилетантами, как бывало раньше, а в музыкальных обществах и в кружках совершенно иного типа развивалось теперь искусство.
В основе нового движения в литературе и искусстве лежали и новые течения общественной мысли. И Глинку, как в прежние годы, потянуло сойтись с той новой петербургской молодежью, кумиром которой был недавно скончавшийся Белинский, которая мыслила и судила о жизни уже по-другому, чем люди 30-х годов.
Один из варшавских знакомых, по фамилии Новосельский, познакомил Михаила Ивановича с молодыми литераторами», членами кружка, собиравшегося по пятницам у Буташевича-Петрашевского.[119] От разговоров и толков, услышанных здесь, на Глинку вдруг повеяло знакомым воздухом юных лет, припомнились Кюхельбекер, декабристы… Эта молодежь, отнюдь не аристократическая, принадлежавшая к разночинной интеллигенции, хорошо приняла Глинку. Здесь разделяли его понятия о народности.
Молодые друзья Новосельского были горячими вольнодумцами-мечтателями. Их речи и мысли направлены были на то, как изменить, в самых ее основах, безобразную жизнь, устранить корень зла – крепостное право. Эти незнакомые Глинке люди высказывали разные мнения, завязывали жаркие споры: одни, ссылаясь на ученье Фурье, мечтали достигнуть социализма мирным путем, другие надеялись подготовить восстание. Однако сблизиться с этой молодежью Глинке не удалось, – не прошло и месяца, как многие из участников сходки у Петрашевского были схвачены жандармами.
Глинка недолго оставался в столице. Он распрощался со своими знакомыми и возвратился в Варшаву. Здесь и климат был мягче, работалось легче, и на улицах никто не видел ненавистной фигуры царя в бобровой шинели и каске с орлом, как видели его всякий день в Петербурге на Невском проспекте.
В Варшаве Глинка закончил «Финский залив» – один из своих последних романсов, и закончил новую редакцию «Ночи в Мадриде».
Из Петербурга писали, что «Камаринская» и «Арагонская хота» имеют успех. Это его и радовало и удивляло.
Уж не наметился ли, думал Глинка, решительный перелом в музыкальных вкусах столицы?
Осенью 1851 года Глинка снова попал в Петербург. Здесь все-таки ближе к родной музыке.
Вокруг Глинки образовалась компания любителей музыки. Юный почитатель Глинки Василий Павлович Энгельгардт, молодой композитор Серов, Вильбоа, Даргомыжский и Дмитрий Васильевич Стасов[120], брат Владимира Стасова и другие собирались, играли на трех роялях в двенадцать рук то симфонии Бетховена, то отрывки из «Ивана Сусанина» или «Руслана».
В апреле 1852 года Петербургское Филармоническое общество организовало концерт из произведений Глинки. Автор впервые услышал свою «Камаринскую» в оркестре.
Этот концерт подбодрил, обрадовал Глинку и убедил его, что жил, учился и творил он не зря. И сил еще много, и жить можно, и творить нужно, следует лишь еще раз увидеть мир, еще раз поехать в Испанию, освежить и возобновить запас впечатлений.
Глинка, уехав в Париж, остался там на два с половиной года. В Париже Глинка задумал было писать украинскую симфонию – «Тарас Бульба» и начал делать заготовки, наброски.
За годы, которые Глинка провел за границей, в Европе, сперва незаметно, потом уже явно подготовлялась война с Россией. Предвестия этой войны начинали тревожить умы парижан, занятых вопросами политики. Названия – Босфор, Дарданеллы, Молдавия и Валахия стали мелькать в газетах и повторяться в парижских домах. Стремления России противоречили захватническим интересам Англии и Франции. Они заключили военный союз, вы ступив как «защитники» Турции. Война, видимо, была неизбежна. И она действительно разразилась осенью 1853 года.
Весной 1854 года Глинка покинул Париж, собираясь вернуться в Россию. По пути он заехал в Берлин, чтобы свидеться с Зигфридом Деном. Старый теоретик все так же думал, говорил, как и прежде, так же поглядывал сквозь очки, так же был увлечен квартетами Гайдна. За долгие годы у него накопился огромный запас теоретических и практических знаний, с которыми хотел ознакомиться Глинка. Но теперь Михаил Иванович спешил в Россию, домой, – война разгоралась.
К моменту возвращения Глинки в Петербург война перекинулась в Черное море, союзники бомбардировали Одессу. Английские корабли уже рыскали и в Балтийском и в Белом морях.
В России стало неспокойно. Крестьяне во многих губерниях восставали против помещиков. По всей стране нарастало общее недовольство. Некоторые проницательные политики в Петербурге не без основания говорили, что новой войной правительство Николая I надеется заглушить недовольство, отвлечь внимание русских людей от вопросов внутренней жизни страны, предотвратить возмущение крестьян.
Между тем союзники высадились в Крыму. Началась оборона Севастополя.
В это время Глинка поселился у сестры Людмилы Ивановны Шестаковой в Царском Селе. Он мысленно стал подводить итог всей своей сложной творческой жизни.
Однажды он в шутку сказал сестре, что намерен писать мемуары. Людмила Ивановна тут же стала его убеждать не откладывать этого замысла в долгий ящик. Сестра ходила за братом, как мать за сыном. Одиночество брата, однообразие его жизни тревожили Людмилу Ивановну. «Записки» могли хоть немного развлечь брата, занять его ум и разбудить воображение. Людмила Ивановна не ошиблась: Глинка засел писать с истинным увлечением. Он точно помолодел за этой работой: снова вернулись к нему и веселость, и прежний задор, и язвительный юмор. Иногда, дописав страницу, он весело хохотал, потирая от удовольствия руки, и тут же шел к сестре прочитать ей написанное. Но чем он дальше писал, тем чаще ему приходило в голову, что о самом заветном, важном и дорогом писать все равно невозможно – не напечатают. Кто будет читать его мемуары? Те самые люди, что извратили «Сусанина» и осмеяли «Руслана»? Но от этих людей все заветное надо прятать. После его смерти царь наверно подошлет Виельгорского или Львова распорядиться наследством композитора, как подослал Жуковского к пушкинскому архиву, и труд все равно пропадет. Недаром Пушкин прятал от всех своих дневники, которые он, говорят, вел. И Глинка изменил первоначальный план своих «Записок», стал обходить подводные камни и прикидывать каждый абзац на цензуру. Словно хотел подсказать грядущим читателям мысль: «Посмотрите, как это все странно вышло: знаменитый Глинка всю жизнь проказил, дурачился и бездельничал, а написал превосходные романсы. Он как будто бы был верноподданным, ни в чем не замешан, и царь его награждал, но почему-то царские перстни Глинка дарил жене, а царские приближенные притесняли его. Опера «Иван Сусанин» вышла совсем неплохой и впервые поставила в русской музыке вопрос о народности, о народном герое, хотя текст для нее сочинял бездарный, благонамеренный Розен, чуждый всякой народности, кроме официальной уваровской, ложной. Глинка проводил время с «братией», но именно в эту пору создал «Руслана». Глинка учился у немца Дена, а заложил основы русской национальной музыки.