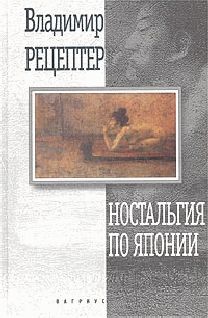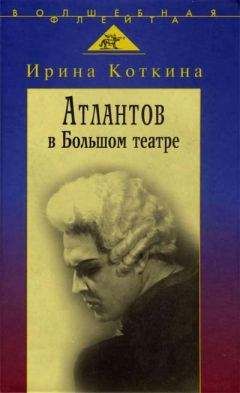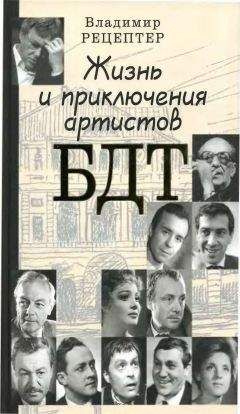О, господин Бессловесный был патриот и торжествовал вместе с семьей городничего. Боже и Господи сил, какого светлого будущего ждал он для всей России, как возносился в мечтах!.. А по причине врожденного женолюбия, - разве оно помеха патриотизму? нет и еще раз нет! - как обжигал он страстными глазами обнаженные плечи собравшихся дам!..
И съесть, и выпить он был готов, если бы дали, так ведь не дали. И пусть, пусть, не в этом счастье, он все равно, все равно...
- Уважаемые господа! - молча кричал он. - Не могу передать вам, какое это счастие быть дураком и знать свое дурацкое место! Какая всеобщая любовь и общественное признание станут изливаться на вас со всех сторон от благодарных современников, как только вы проявите себя действительным дураком! В сияющем нимбе вашей дурацкой светлости им покажется, что каждый из них поумней, а значит, и одаренней от Господа Бога, и в их душах настанет мир и покой, потому что они достойнее... Какое же это благодеяние - показать счастливыми окружающих вас!.. Братья мои по разуму, светлейшие дураки! Будьте такими, как есть, не верьте случайностям лестных предложений, откажитесь от карьеры, которая погубит ваше здоровье и репутацию, будьте здесь, со мной, в самой близости к русской земле и великому народу, беззлобно наблюдающему за дурацкими перемещениями должностных лиц!.. Я люблю вас, люблю, как самого себя, и, глядя в японское зеркало, не могу наглядеться на эту дурацкую физиономию!..
Нет, никто кроме коллеги-артиста не поймет этого восторга, а за ним и самого вдохновения, переселяющего тебя в другое время, новое пространство и не известное прежде лицо, которое вдруг - ни от чего - почему-то знаешь, слушаешь и пестуешь как самого себя!..
Тут и случается под чужими колосниками известная странность, и наверху, в черном небе, сдвигается крышка, и дырявится крыша, и едет незнамо куда, и столп верхнего света упирается в твое темя, и тело теплеет, и, сам не свой под живой ладонью Господа, становишься честным проводником диктующей воли.
О, тогда все равно, все равно, принц ли Гамлет снова является в мир, или Ванька-дурак Хлестаков, или господин Бессловесный собственною персоною!..
Так что учтите, учтите, читатель, что весь наш скарб, гардероб, реквизит, все раны плоти и самолюбия, пустые надежды, праздная болтовня и пакеты с консервными банками, весь домашний сор и гастрольный мусор, и трижды проклятый быт столько раз бывали опровергнуты, сколько раз выходил на сцену вдохновляемый ролью артист...
Бывает, бывает, знаете...
Особенно в виду Фудзиямы...
Виталий Константинович Иллич, в костюме которого на японских островах сама судьба и лично Г.А. Товстоногов обязали меня выходить безымянным гостем в "Ревизоре", был не только умен, но и красив, и хорошо сложен, отчего наши женщины между собой называли его "Марчелло", сравнивая с самим Мастрояни. По манере поведения Иллич казался человеком флегматичным и даже степенным. На самом же деле в нем жил скрытый темперамент и, что особенно важно, притаенный и проявляющийся на полном покое юмор.
Как-то, еще до прихода в БДТ Г.А. Товстоногова, в театре готовили постановку пьесы И. Прута "Тихий океан" о суровой службе советских подводников, терпящих бедствие на дне океана. Офицеров подлодки играли Стржельчик, Иванов, Иллич, а ставил спектакль режиссер Альтус.
Поскольку в лодке кончался кислород, артистам, и прежде всего Виталию Илличу, казалось естественным играть некую заторможенность людей, испытывающих кислородное голодание. Но темперамент режиссера перехлестывал вялое течение подводного действия. Он взбежал на сцену и стал вдохновенно показывать всем, и прежде всего Виталию Илличу, как именно следует играть.
- Вот так, - приговаривал режиссер Альтус, увлекая исполнителей личным примером, - так... и так!.. Понял, Виталий?.. Ты должен сделать это так!..
На что Иллич, сводя на нет творческие усилия постановщика, совершенно невозмутимо ответил:
- Можно так, а можно и иначе.
- Только так! - не помня себя от ярости, на весь театр закричал обиженный режиссер...
Я понимаю, что выражение "можно так, а можно и иначе" совершенно банально и представляет собой общее место, но именно в театре, при неизбежной диктатуре режиссера, оно приобретает чуть ли не бунтарский смысл. Видимо, поэтому реплика Иллича сделалась крылатой и стала передаваться из уст в уста, и даже из поколения в поколение. Если актеры хотели заявить о своем несогласии с режиссерским решением или подвергали его сомнению, они повторяли репризу. И в разговорах между собою пользовались ею как своеобразным паролем. Стоило раздумчиво и несколько флегматично произнести: "Можно так, а можно и иначе", и казавшаяся сложной ситуация парадоксально упрощалась. Часто, демонстрируя свое свободомыслие и независимость суждений, большедрамовцы, как заговорщики, намекали друг другу:
- Можно так, а можно и иначе.
Наследуя традиции актерского цеха, и Р. не раз пользовался "парадоксом Иллича". В конце концов, он учил широте художественных воззрений, звал к мирному сосуществованию враждующих театральных систем, наконец, наводил на мысль о будущем театральном рае, в котором никто никого не угнетает, не топчет и не ест...
Однажды, во время гастролей в Нижнем Новгороде, в то время еще Горьком, Иллича поселили в гостинице рядом с Ниной Алексеевной Ольхиной, неувядающей красавицей и неизменной героиней Больдрамта. Те, кто хоть раз видел Ольхину на сцене или смотрел фильмы-спектакли с ее участием, например, "Разлом" или "Лису и виноград", не могли не обратить внимания на ее роскошный, сильный, с потрясающими низами и волшебными фиоритурами голос и дивную классически театральную манеру придавать любой фразе романтическую приподнятость и выразительную звучность. Такие голоса знатоки по праву называют "орган". И этим своим органным голосом Нина Ольхина часто разговаривала по телефону с оставшимся в Ленинграде мужем, человеком образцового терпения и кротости.
- Витюня! Ты не можешь себе представить, - выпевала она, - какой здесь вид из окна! Я говорю с тобой и смотрю прямо на Волгу, ты представляешь!.. А какая стоит погода, Витюня!.. Боже мой!.. Как жаль, что тебя нет с нами!..
Поскольку Виктор Зиновьевич находился действительно далеко от города Горького, Нина Алексеевна все повышала свое божественное контральто, передавая художественные впечатления так, что вместе с дорогим ленинградским абонентом ее слышала и вся гостиница "Волга".
- Витюня! Милый! Ах!.. Какое красивое лето! И - представь - начинается нижегородская ярмарка! Может быть, ты все-таки приедешь к нам, Витюня?