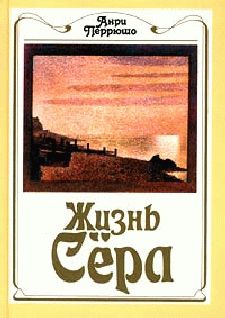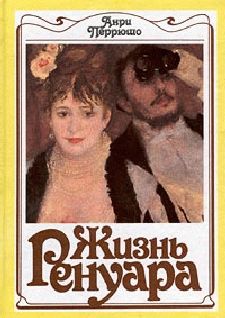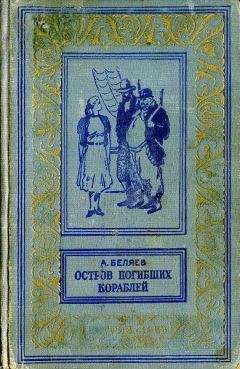Сёра иллюстрирует это противоположение двумя крохотными рисунками. Перечитав письмо, он кладет его в конверт.
На улице августовское солнце пылает над неподвижными просторами моря.
Сыны человеческие уловляются,
Ибо человек не знает своего времени.
Священное писание
Осень. Сёра и Синьяк, должно быть, никогда не были столь активны. Каждый на свой лад, разумеется.
Синьяк с головой ушел в общественные дела. В октябре "Группа двадцати" приняла его в свои ряды. "Не бойтесь загружать меня работой в интересах ассоциации", - написал он вскоре Октаву Маусу, передав ему просьбу поблагодарить от его имени членов группы. По настоянию Синьяка независимые художники решили организовать ретроспективный показ произведений Дюбуа-Пилье в рамках своей следующей выставки. Он также с рвением взялся за подготовку ретроспективной экспозиции Ван Гога (как у "Группы двадцати", так и у независимых), хотя и был не очень высокого мнения о его творчестве (голландец, считал он, "интересен лишь своим безумием".). Отметим, между прочим, что эти планы Синьяка, кажется, не слишком вдохновляли Эмиля Бернара: он тоже готовил выставку произведений Ван Гога, негодуя по поводу того, что ему перебежал дорогу ненавистный Синьяк; после смерти Тео ван Гога, последовавшей в январе, он далее станет убеждать его вдову "запретить ретроспективу у независимых"[142].
Что касается Сёра, то он с еще большим пылом продолжал свои эксперименты. Сёра приступил к работе над новой композицией довольно большого размера (высотой метр восемьдесят пять и шириной метр пятьдесят), вновь обратившись к теме движения; теперь речь шла о наезднице, мчащейся по арене цирка Фернандо на глазах у зрителей, заполнивших амфитеатр. В том самом цирке Фернандо, который не раз удостаивался внимания художников: он вдохновлял Ренуара, написавшего "Жонглерш", Дега, создавшего "Лолу"; а года два назад к теме цирка обратился и Тулуз-Лотрек, нарисовав "Наездницу в цирке Фернандо"; и вполне возможно, что речь шла об одной и той же молодой женщине - задорной и нервной рыжеволосой актрисе, которая ради любви стала звездой акробатической верховой езды[143].
Композиция этой картины будет такой же, если не более сложной, как композиция "Канкана". Художник прочерчивает на холсте синей краской сетку, с помощью которой он с присущей ему точностью вычислит место и расположение персонажей - их будет более сорока - и деталей фона. Эта композиционная сложность ярко контрастирует с исключительной экономией средств, к которой прибегает Сёра, в частности с преднамеренной бледностью цветовой гаммы; художник ограничивается использованием желтого, красного и синего цветов.
Вечерами он часто отправляется в цирк Фернандо и зарисовывает то наездницу, то мсье Луаяля, то странную шапочку клоуна (он изобразит его со спины на первом плане композиции). Время от времени он берет туда с собой Анграна; во всяком случае, Сёра изобразит своего друга сидящим в цилиндре сразу же за ареной, в первом нижнем ряду амфитеатра, заполненного зрителями.
Ангран, как и тридцатишестилетний уроженец Макона, новоиспеченный адепт неоимпрессионизма Ипполит Птижан, был в числе самых прилежных посетителей мастерской Сёра. Он один из немногих знакомых художника, посвященных в тайну существования если не ребенка, то по крайней мере самой Мадлен Кноблох.
Этой благосклонности удостоился и Птижан. Сёра воспылал дружескими чувствами к бывшему ученику Кабанеля, человеку застенчивому, с кроткими глазами, который, казалось, был напуган жизнью; и для этого, вероятно, имелись основания: будучи сыном коммерсанта, он не без риска пустился в авантюру на поприще искусства, обладая самыми заурядными способностями. Однако недостаточно прослыть известным в своих деревне или квартале - мир огромен, и заставить его признать себя можно лишь чем-то экстраординарным. Ничем не объяснимая тяга к миражам, конечно же более сильная, чем у обычных людей, позволяет отдельным счастливчикам собирать вокруг себя толпу фигурантов, но она же и обрекает ищущих признания людей на горькие разочарования.
Академические пристрастия Птижана должны были бы отдалить от него Сёра. Синьяк, не питавший к нему особых симпатий, осуждал его за "слащавый", "пошлый" рисунок, обладающий "бугротесковой" (он произносил это слово с глубоким отвращением) опрятностью, за "дисгармонию" красок, или "ошибки в сочетаниях цветов"... Но Сёра не придавал большого значения всем этим изъянам. Возможно, неудачи, нелегкая жизнь Птижана, с ее свинцовым, мрачным горизонтом, затрагивали какие-то сокровенные струны его души. Жизнь ведь не без этого, не так ли? Жизнь немилосердная, разрушительная, жестокая... Сколько рук протянулось в слепом порыве к недосягаемым, озаренным светом владениям, куда легко и свободно входят лишь одни хозяева этой благословенной земли.
Набросав на дощечке в треть формата подготовительный и окончательный этюд композиции, Сёра принялся за саму картину[144]. Его охватило странное нетерпение. Учитывая то обстоятельство, что очередная выставка независимых должна открыться в марте, успеет ли он закончить полотно? Весьма прохладный прием, оказанный прошлой весной "Канкану", очевидно, вызывал в нем желание взять реванш. Но можно ли объяснить только этим овладевшую им затаенную пылкость, своего рода горячность, если можно так выразиться в отношении столь уравновешенного существа? Правда, сам Ангран признавался в том, что иногда бывал поражен непривычно возбужденным состоянием своего приятеля.
"В памяти у меня сохранилось, - писал впоследствии Ангран, - как мы беседовали однажды во второй половине дня в его мастерской, находившейся в переулке. Он работал тогда над "Цирком". Уж не знаю, по какой причине, но я возражал на его замысловатые теоретические высказывания, и от сдвоенных гармонических сочетаний разговор перешел к тройным, за цветом последовали линии, когда, схватив свой табурет, словно это был наглядный предмет, Сёра, по натуре скорее молчаливый и застенчивый, вдруг обрел красноречие, и притом красноречие уверенного в своей правоте человека. Столь внезапнее превращение странно поразило меня".
И Ангран был не единственным, кто обратил на это внимание. Когда кто-нибудь из знакомых заходил к Сёра в мастерскую, почти сразу же завязывался разговор о дивизионизме, что само по себе не было необычным неожиданным было другое: стоило обронить какое-либо замечание или задать вопрос, как художник спрыгивал со своей лесенки, приседал на корточки и, взяв в руки мел, начинал что-то чертить, опровергал доводы собеседника, выдвигая свои собственные аргументы, доказывал[145].