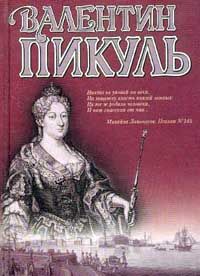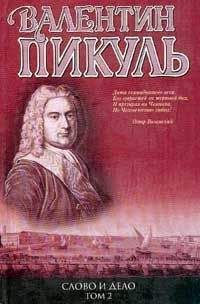стола. Эсминец покачивало у пирса, качался и я, лежа на пробковом матрасе в своей уютной подвесушке.
— Ну, как тебе? — спрашивали матросы. — Небось приятно?
— Замечательно! Будто на дачу приехал…
Курядов как сверхсрочнослужащий лежал на койке с пружинной сеткой.
Он сказал мне:
— Дачники мы только на базе. А на походе — хуже собак бездомных. Где приткнешься — там и ладно. По две недели ватников не снимаем. Сигнальцы, те даже спят в шапках. Разрешается на походе только ослабить ремень. Это ты, браток, еще испытаешь!
Среди ночи я вместе со своей «дачей» сверзился с потолка, трахнувшись затылком о железную палубу. Все в кубрике проснулись, врубили освещение.
Сонные матросы галдели:
— Чего тут? Будто прямое попадание!
— Да это юнга… отбомбился удачно. Койку с вечера плохо пришкертовал, на качке концы ослабли и отдались. Спим, ребята!
Но спать не пришлось. Внутрь отсека, пронизывая команду тревогой, через динамик ворвался голос вахтенного офицера:
— Корабль к походу и бою изготовить. Срочно.
Звонки, звонки, звонки… Колокола громкого боя!
Грохочут трапы, извергая через люки матроса за матросом.
По всему эсминцу лязгают крышки горловин — задраиваемые.
* * *
Офицеры преобразились. Стали медведями — мохнатыми и толстыми, в меховых канадках с капюшонами, на ногах — штормовые сапоги, белые от засохшей соли, а медные застежки на них — зеленые от воздействия морской воды на медь.
Штурман перехватил меня на трапе:
— Слушай, юнга! Юности свойственно соваться куда не надо. Предупреждаю: в море исправлять ошибки некогда, ибо любая из них заканчивается… скверно. Держись крепче!
— Есть — держись крепче!
— Добро, коли понял. Не старайся пробегать под волной. И не такие орлы, как ты, пропадали. С морем не шутят! А по верхней палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны. Запомни: ты — миноносник, а это весьма рискованная профессия на флоте, где люди вообще привыкли рисковать. Ясно?
Я продрог до костей и все-таки не ушел с полубака, пока эсминец двигался из Ваенги на выход из Кольского залива. Была глухая арктическая ночь, но полярное сияние полыхало вовсю. В этом феерическом свете перемешались все краски радуги, окрашивая угрюмый мир из нежно-зеленого в трагически-бордовый. Навстречу нам, устало рыча выхлопом, прошли с океана три торпедных катера. Откуда-то с берега им мигнул сигнал вызова, и головной катер отстучал в ответ свои короткие позывные.
Скалы вдруг стали круче, они как бы нехотя расступились перед эсминцем, образуя каменный коридор, и форштевень «Грозящего» вдруг подбросило кверху, весь в ослепительном сверкании пены. Вода фосфорилась столь сильно, что побеждала даже мрак ночи. Я глянул на скалы и обомлел. Гигантскими буквами на скалах были начертаны белилами напутствия Родины всем уходящим в море:
СЕВЕРОМОРЕЦ — ОТОМСТИ!
СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!
Это была такая наглядная агитация, что пробирала до самых печенок. Политотдел флота отыскал наилучшее место для призыва к победе.
Но это было еще не все. На выходе в океан радисты врубили по жилым отсекам трансляцию, и кубрики заполнило музыкой.
Прощайте, скалистые горы! На подвиг Отчизна зовет. Выходим в открытое море — В суровый и дальний поход…
Сколько уже раз я слыхал эту песню, и никогда она не производила на меня такого сильного впечатления. Душа наполнилась особенным, возвышенным торжеством.
А волны и стонут, и плачут, И плещут о борт корабля. Растаял в тумане далеком Рыбачий — Родимая наша земля.
Я глянул по левому траверзу и в далеком тумане вдруг разглядел узкую полоску Рыбачьего. В этот миг я прощался с родимой землей, давшей мне жизнь, а Родина прощалась со мною, как со своим сыном! Да! Все было точно так, как в песне. У меня с непривычки даже слезы из глаз выжало.
Корабль мой упрямо качает Крутая морская волна. Поднимет и снова бросает В кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро…
И это правда. Ой, не скоро вернусь я домой!
И меня в жизни часто агитировали — даже тогда, когда я в агитации не нуждался. Первый мой выход в океан на эсминце раз и навсегда определил мои убеждения — двумя словами на скалах, одной песней по корабельной трансляции…
Так я вышел в океан моей юности!
* * *
Я попал на Северный флот в период, когда открывался сезон жестоких предзимних бурь. «Держись крепче!» — внушал я себе. Но как я ни крепился, как ни приказывал себе держаться, хватило меня ненадолго, и сразу за островом Кильдином я подарил морю свой ужин. Оно слопало его, даже не сказав мне «спасибо», и стало ждать, когда я позавтракаю. Это меня сильно огорчило, но я решил не сдаваться и делал все, что положено юнге!
Завтрак был ранний, в шестом часу утра. Кусок хлеба с маслом застревал в горле. Первый кубрик — в самом носу эсминца. Когда «Грозящий» взбирался на верхушку волны — это было еще терпимо; но когда он, мелко вибрируя, начинал оседать в провале волн, — вот тогда… Это была килевая