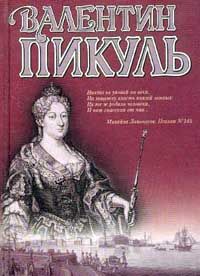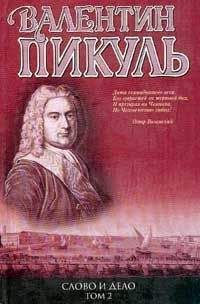Рисовую кашу с колбасой я принес уже без аварии. В этом случае бачок можно было держать одной рукой, а другой — самому держаться. Помыть посуду — ерунда. Покидая кубрик, Курядов сказал мне:
— Ты выспись. Сегодня тебя на руль ставить будем…
Иллюминаторы в море задраены намертво. Дневного света не увидишь. А чтобы подвахта отдыхала, освещение вырублено, горят только синие ночные лампы. В этом синем мертвенном свете через лаз, вижу, ползет к нам шифровальщик. Вот человек! Живет в салоне, по коврам ходит, спит на перине, а за едой к нам бегает. Он на ощупь растолкал меня:
— Эй, юнга! Шамовка осталась? Или все свинтили?
Я кивнул ему на шкафчик возле лагуна, там лежали про запас хлеб с маслом и сахар. Потом спрашиваю шифровальщика:
— Эсминец-то наш куда нарезает?
— А какое твое дело? — ответил он мне, жуя.
— Но ты-то ведь знаешь, куда идем?
— Еще бы не знать! Я да командир. Знаем. А ты валяйся.
Кажется, валяться — это единственное, на что я был способен. Качка вконец измотала меня.
Но вот щелкнул динамик, в палубу ворвался шум моря, слышный с мостика, в треске и свисте возникли голоса сигнальщиков, и вахтенный офицер вдруг объявил:
— Юнга Эс Огурцов, заступить на ходовую вахту.
* * *
Оторвал я голову от рундука и тут же опустил ее снова. Кажется, не встать. В старом флоте таких, как я, били цепочкой. Лупцевали до тех пор, пока в острой боли человек не забывал о мучениях качки. Тогда он вставал и шел на вахту. Это жестоко, но другого выхода не было, ибо флот балласта не терпит. Каждый должен делать свое дело. А я встать не мог. Выходит, все мечты — за борт?
Неумолимая трансляция повторила:
— Юнга Эс Огурцов, тебя ждут на мостике.
Я встал. Все дрожало и тряслось вокруг меня — в грохоте, в тумане. Пошел к трапу. Вот оно, море! В полном мраке неслись надо мною черные туши волн, среди которых совсем затерялся «Грозящий», казавшийся посреди стихии маленьким и хрупким. На срезе полубака торчали дула зенитных эрликонов. На их круглых барбетах, с ног до головы опутанные проводами телефонов, сидели зенитчики и медленно покрывались льдом. Сквозь рев ветра я расслышал, как они мне крикнули:
— …рожно… тра-апе-е… олна-а… моет!
Это был самый опасный трап на эсминце — в том месте, которое часто мыла волна. Но его не миновать, если хочешь попасть на мостик. Я все-таки угодил под накат, и как меня не сорвало тогда с трапа — до сих пор не понимаю. С горечью моря во рту, мгновенно прознобленный ветром, я миновал еще четыре трапа и выбрался на платформу мостика. Вот где качало! Внизу-то — шуточки, детский лепет. Амплитуда колебаний мостика была гораздо шире, нежели в низах корабля. Под забрызганным стеклом бесновато гуляла стрелка кренометра. Дойдет до упора и онемеет там, словно застряла. Сильный крен! Возле визира со светофильтрами, проглядывая перед собой мрак и ненастье ночи, согнулся вахтенный офицер. По крыльям мостика цеплялись, чтобы не упорхнуть за борт, сигнальщики. С высоты мостика эсминец был похож на узкое длинное веретено, пронзающее бешеный хаос воды и холода. Сверху особенно заметно, как его стальной корпус прогибается на волне, словно клинок, — согнешь его, но не сломаешь…
Я шагнул в ходовую рубку и только здесь обнаружил свет: от картушки репитера исходило слабое сияние. Под маскировочным колпаком зябко вздрагивала черта нашего курса. Курядов стоял за манипуляторами, а в углу рубки были свалены какие-то тулупы. Порывом крена меня так и швырнуло на эту гору овчин. А из груды тулупов раздался сонный голос командира эсминца:
— Что вы там… Или ноги уже не держат?
Курядов цыкнул на меня:
— Дай поспать человеку. — После чего уступил мне манипуляторы. — Забирай у меня эсминец, — сказал он. — Сдаю курс в девяносто два градуса. Волна лупит нас в правую скулу… Учти это!
Руками в варежках я обхватил рукояти и вахту принял:
— Есть девяносто два. Есть по правой скуле… учту.
Старшина из рубки не ушел, поправляя мои движения:
— Если станешь психовать, это сразу отразится на курсе. Эсминец — дама очень нервная и начнет «рыскать»…
Что я видел сейчас? Передо мною качался затемненный экран ночи, на котором стихия прокручивала один и тот же бесконечный фильм. На фоне черноты и гула волн иногда вырисовывался острый нож полубака эсминца, который упрямо резал волну. Два баковых орудия прижали свои стволы к самой палубе.
— Приучи себя, — говорил Курядов. — Взгляд на картушку, взгляд по курсу. Это необходимо. Можешь заметить то, что прохлопают сигнальцы. Например, мину! Тогда быстро отработай манипуляторами до отказа, эсминец выпишет резкую кривую, после чего докладывай о мине. Но сначала исполни маневр. Ответственность на тебе.
— А командир, — спросил я, — он всегда так?
— Да. Измотан. На походе с мостика не слезает. Сюда и кормежку носят. Офицеры, те, правда, на часок в каюту заглядывают. Так что нам, матросам, совсем барская жизнь…
Рядом со старшиной мне было спокойно. Поверх моей варежки он клал свою громадную рукавицу на собачьем меху.
— Вот так… левым мотором… чуток подвинем.
В желтом свете репитера уверенно дрожала отметка — 92.
— Ну и ладно, — вздохнул старшина. — Справишься один?
— Конечно, — ответил я. — Мы же все это изучали.
Покидая ходовую рубку, старшина сказал:
— В случае чего пихни ногой командира, чтобы вскочил.
Я вытаращил глаза. Как это я, юнга Огурцов, буду пихать ногой командира, который носит звание капитана третьего ранга?
— Он не обидится. Сам просит рулевых об этом…
Старшина ушел, а я остался наедине с кораблем. Я и эсминец. Эсминец и я. Больше никого. Только возле моих ног спит командир «Грозящего».
В матовом свете