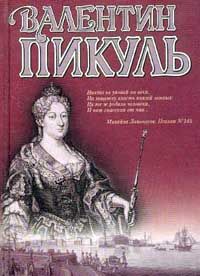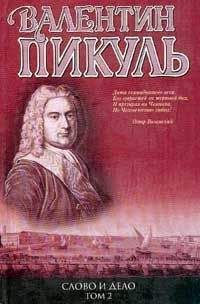пота ухо было крепко зажато в руке старшины Лебедева, — он меня увлекал за собой.
— Я те покажу, где раки зимуют! — говорил он, и я свято верил, что он действительно мне покажет.
Тогда я еще не думал, что любовь моя со временем обратится в профессию и гирокомпасы прочно войдут в мою жизнь, — они станут давать мне хлеб… Я зарабатываю свой хлеб тем делом, которое люблю. Наверное, именно потому я и счастлив.
* * *
На флоте, даже если ты желаешь болеть, тебе этого никто не позволит. Не успел я опомниться, как на палубе меня настиг лейтенант Эпштейн — в шинели, при белом кашне.
— Собирайся. Быстро!
Под кормою торкал мотором катер. Мы сели в него и понеслись на середину рейда. Я спросил доктора:
— А что со мною сейчас будет?
— Утопим, чтобы больше с тобой не возиться.
Катер подошел под трап лидера — вожака эсминцев. На лидере был рентген и два врача. Меня просветили и выставили прочь из лазарета, чтобы не мешал беседовать на научные темы о моем здоровье. После чего мы вернулись на «Грозящий», где меня уже поджидал крупоед Будкин с кварцевой лампой. Взялись за меня здорово! Но взялся за меня — с другой стороны — и Лебедев. Так взялся, что уже через месяц я нес самостоятельную вахту в гиропосту.
Скоро получилась перегрузка в штате: два старших специалиста и один — я! — младший. Аншютисты всегда ценились на флоте, и похоже было, что кого-то одного следовало убрать.
Иванов говорил мне с надрывом:
— Подсиживаешь ты меня. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу.
— Ты, земляк, не гунди, — отвечал я. — Если ты неуч, то я неучем быть не желаю. Не карьеру делаю, а служу!
— Вижу, как ты служишь. Я восьмой год табаню, а ты прискакал, от горшка два вершка, и уже на мое место уцепился.
Решили оставить на «Грозящем» одного старшего и одного младшего специалиста. Я боялся, что Лебедева переведут куда-нибудь и тогда старшиной надо мною станет «земляк», чтоб ему ни дна, ни покрышки… Но нет, пронесло: Иванову велели собираться с вещами.
— Подсидел ты меня, — плакался он на прощание.
Впрочем, плакался он недолго. На плечи ему тут же навесили старшинские погоны, с обратным караваном Иванов поплыл в Лондон и там первым делом побежал смотреть музей восковых фигур. А мы с Лебедевым остались на «Грозящем», чтобы по двенадцать часов в сутки нести вахту. В промежутках между вахтами спали, имея в кармане ватника отвертку, флакон со спиртом и комки ваты. В морозные ночи только и слышишь, как грохочут звонки в нашу часть: «На мостик!.. На мостик!.. На мостик!..» Значит, опять покрылись льдом линзы на пеленгаторах или покрылись инеем стекла репитеров. Надо протирать… Служба была хлопотливая и беспокойная. Книжку, бывало, возьмешь в библиотеке и держишь ее целый месяц — некогда читать!
Когда я окончательно освоился с новой специальностью, меня по боевому расписанию начали оставлять в гиропосту, а старшина Лебедев мотался наверх — к штурману. Таким образом, я стал командиром БП-II БЧ-I…
К тому времени мне исполнилось шестнадцать лет!
Когда в отсеки врывались зовущие по местам колокола громкого боя, я захлопывал над собой люк, докладывая в телефон:
— Гиропост — мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!
Это был удивительный бой. Я сидел на днище эсминца, никогда не видя противника, только слушал, как с ревом обтекает мой эсминец яростная забортная вода. Я был молод, но понимал: случись хотя бы одно попадание торпеды — и я буду похоронен здесь же, на своем посту; отправлюсь на грунт вместе с любимым гирокомпасом, который, пока мы живы, старается дать людям для победы все, что только способна дать человеку техника.
Смолоду я не был излишне сентиментален. Но когда война завершилась победой и мне надо было уходить с корабля, я на прощание обнял гирокомпас, как обнимают верного друга. Я тогда горько заплакал над ним, сознавая, как много он мне дал и как много я с ним теряю.
Иной раз — в мирной тишине квартиры — я спрашиваю себя:
— Была ли юность? Или приснилась она, как сон?..
Юность, конечно, была. И, по-моему, такая, как надо!
Кончилась она в тот день, когда я последний раз выбрался по трапу из своего БП-II БЧ-I эскадренного миноносца «Грозящий». На память об этой юности остались две ленты — одна с именем эсминца, а другая — юнговская… Со смешным бантиком!
* * *
Я был демобилизован с флота, так и не дослужившись до матроса. В документах указано мое первое и последнее звание — юнга!
С тех пор прошло немало лет.
Нет, мы еще не старые, Но бродит тем не менее Знакомыми бульварами Другое поколение.
Но и поныне я еще живу курсом, что дал мне гирокомпас, указавший дорогу в большую жизнь, в которой меня ожидали новые тревоги и новые напряжения души.
Конечно, не я принес Родине Победу. Не я один приблизил ее волшебный день. Но я сделал что мог.
В общем прекрасном Пиру Победы была маленькая капля и моего меду.
Сейчас мне за сорок, и мне уже давно не снятся гулкие корабельные сны. Но до сих пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам флота не угрожает старость.
Эпилог последний
Человек и Море…
Это особая