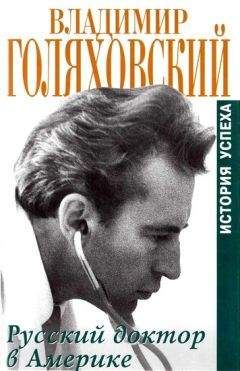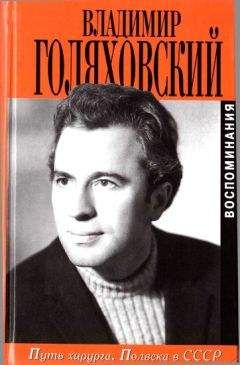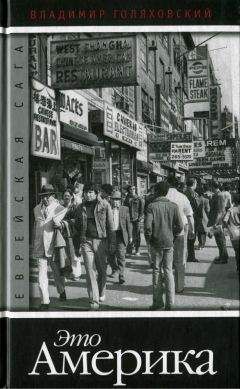Майкл мрачно комментировал:
— Напрасно дают — старухам все равно ничего не достанется, все их мужики отнимут, мужья или сыновья. И тут же пропьют.
В полутемном храме висело несколько темных икон, возле них горели чахлые свечи. Очевидно, место это было не очень популярное в Кургане — ставили свечки и крестились всего несколько женщин. Войдя, наши девушки-студентки тоже стали креститься и шевелить губами, произнося молитвы. Майкл опять прокомментировал:
— Вот до чего коммунисты народ довели — нашим девчонкам надеяться больше не на кого, кроме как на Бога.
Американцы выходили из храма притихшие. На них подействовала его бедность.
— Как называется эта церковь? — спрашивали они.
Студентки не знали. Я тоже понятия не имел и пошутил:
— Святого Гавриила, в честь Илизарова.
Американцы поверили:
— Неужели он так популярен, что его именем назвали церковь?!
Девчонки расхохотались, и даже Майкл усмехнулся.
— А синагога здесь есть? — спрашивали евреи из нашей группы.
Синагоги в городе не было.
— Как же так? Это дискриминация! Где же евреям молиться?
— Да они не молятся. Советская власть за долгие годы отучила их молиться. Немногие живущие в Сибири евреи — ассимилированные. Профессор Илизаров, его старая мать Голда, его сестры, которые здесь живут, — евреи. Но они не молятся.
— Как, профессор Илизаров еврей?! Владимир, ты правду говоришь, что Илизаров еврей?
— Конечно, правду.
— Как же он добился такого высокого положения в России?
— Талантом и упорством. Но ему нелегко это далось.
Они еще долго обсуждали это поразившее их сообщение и расспрашивали меня о положении евреев в России. Американцы привыкли считать, что, раз в Советском Союзе был антисемитизм, значит, евреев преследовали чуть ли не так же, как в гитлеровской Германии. Я объяснял им, что в сталинские времена некоторых евреев действительно арестовывали и казнили. Но это была компания против всей интеллигенции. Евреев ущемляли в правах и позже, пробиваться им было тяжело. А все-таки они пробивались, и среди советских докторов было много евреев.
— В Америке до 30-х годов тоже был большой антисемитизм, евреев старались не принимать в университеты и на работу. А те евреи, которые учились и работали, испытывали на себе дискриминацию. Но все равно синагоги не закрывались, и евреи свободно ходили в них молиться. Не как у вас в России…
Из церкви нас повезли в музей декабристов. Курган был одним из городов, куда после каторги ссылали на жительство участников восстания 1825 года. Здесь жили друг Пушкина поэт Кюхельбекер, князь Трубецкой. В городе сохранились два больших бревенчатых сруба. И выглядели они лучше, чем многие современные дома. Правда, их поддерживали, потому что в них теперь был музей.
Для нашей группы в музее был дан концерт силами местных артистов-любителей: звучали мелодичные русские романсы и фортепьянные сочинения Глинки, Чайковского, Рахманинова.
Мы закончили день веселым пикником за городом, с шашлыками, которые умело зажарил Майкл, и, конечно, с большим количеством водки.
На последнем занятии Илизарова не было. Нам сказали, что сам Горбачев пригласил его поехать с ним в Италию на открытие советской выставки. Там, как одно из достижений советской науки, должен был демонстрироваться илизаровский аппарат. Нам вручили красивые дипломы на двух языках об окончании курсов. Дипломы были заранее подписаны Илизаровым. Этой подписи наши доктора и профессора радовались, как дети:
— Повешу в своем кабинете — пусть все видят, у кого я учился!
На прощание мы заказали банкет в ресторане для наших русских коллег, пригласив на него также студентов и официанток. Девушки, наверное, редко бывали в ресторанах, стеснялись, но пришли до неузнаваемости нарядные. Илизаровцы и наши доктора говорили короткие тосты, мы раздали всем подарки. Потом оркестр загремел веселую музыку, все пошли танцевать. Лишь Майкл до танцев не снисходил.
Но вот заиграли русскую плясовую, и девушки вытолкнули в круг мою «внучку» Нину. Она грациозно откинулась назад, подбоченилась одной рукой, другую подняла с платочком — и плавно поплыла кругом. Мы все ею залюбовались. И тут неожиданно выскочил в круг Майкл, без пиджака, с засученными рукавами. Он заломил руку за голову и пошел вприсядку вокруг Нины. Вот это была пляска! А когда заиграли еврейский танец «Хора» — тут уж все пустились плясать, задирая ноги.
Под конец вечера некоторые из наших учителей заплетающимся языком изъяснялись в любви американским докторам:
— Я тебя уваж-ж-жаю… оч-ч-чень…
Но без этого банкет не был бы русским.
Уже на улице я сказал Майклу:
— Я не знал, что вы такой прекрасный танцор.
— Да я не танцор вовсе. Но я русак до мозга костей и обожаю русскую пляску.
Если встречали нас в Курганском аэропорту сугубо официально, то провожали по-настоящему сердечно. Девушки принесли цветы и, как полагается девушкам при прощаниях, плакали. Моя «внучка» сказала:
— Как бы я хотела, чтобы у меня был такой дедушка, как вы…
Замялась и поправилась:
— Как ты.
За три поездки в Россию в один 1989 год мне удалось посмотреть на разную жизнь в ней. И везде она была намного хуже, чем когда я уезжал одиннадцать лет назад. И мне все больше становилось ясно, что страна катилась куда-то вниз. Полтораста лет назад Гоголь патетически вопрошал: «Русь, куда несешься ты? Дай ответ». И сам тогда же написал: «Не дает ответа» («Мертвые души»). Тогда ему, проницательному художнику, было еще неясно. Но теперь ответ, кажется, был ясен — Россия неслась в пропасть.
Через год после поездки в Курган я получил письмо от Майкла. Он писал, что больше не может жить в катящейся в пропасть России и просил устроить ему приглашение на работу в Америку.
Книги рождаются в муках и сомнениях.
После поездки в Курган я не переставал думать об издании в Америке практического руководства по илизаровским операциям. Я знал, каким должен быть этот учебник. Американцы любят manual, руководства с указаниями, что и как делать в разных случаях, и с иллюстрациями — наподобие поваренных книг.
Однако идея была слишком смелая: до сих пор я не видел ни одного американского учебника, написанного русским врачом. Десятки американских медицинских издательств издают тысячи солидных книг, и все они написаны авторитетными западными учеными. К тому же мой английский был, как говорится, «черно-белый», не слишком выразительный. Вот если бы Френкель согласился стать моим соавтором…